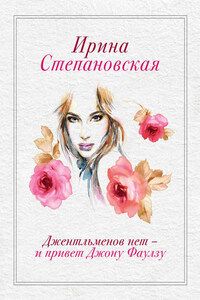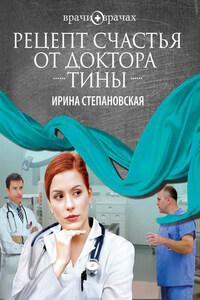…На собраниях Петр Яковлевич сидел на своем постоянном месте с краю, в десятом ряду. Раньше, до войны, большая аудитория заполнялась сотрудниками института до самых последних рядов. Теперь же привычное Нестерову место оказалось галеркой – зал опустел больше чем на две трети, и женщины составляли подавляющее большинство. Вот и сейчас в первых рядах сплошь виднелись платки, платки, поднятые воротники зимних пальто, изредка – ближе к президиуму – серенькие каракулевые шапочки. Цигейковый «пирожок» старого академика – директора института, потертой коричневой кошкой лежал на краю длинного, крытого зеленым сукном президиумного стола.
Нестеров давно и хорошо был знаком с академиком. Когда-то он даже учился у него – слушал лекции еще до революции в Петербурге, а потом год или два работал у него на кафедре. Это уже в Перми, после Гражданской. Затем пути их на время разошлись – будущий академик из-за жены уехал в места, где было посытнее и потеплее, а вот теперь, в войну, судьба свела их снова и забросила еще дальше в глубь страны, на север, за Уральский хребет.
Нестеров знал, что может не слушать, о чем говорится с трибуны. Накануне академик уже вызвал его и предупредил о назначении. Это назначение было совершенно непрошеным и не желательным, и Нестеров просил не назначать его, но академик смотрел на него внимательно большими, мутными, слезящимися глазами и молчал. А потом сказал, что хотя все понимает, но назначить, кроме Нестерова, некого. И Петр Яковлевич сидел теперь в десятом ряду на своем месте с краю и вяло вслушивался в голос до сих пор, несмотря на войну, бойкой дамы – секретаря ученого совета. Зинаида Николаевна, которая с удовольствием стояла на трибуне в роли докладчика, отложила листки, по которым делала доклад, взяла со стола картонную папку и развязала тесемки. Воротник ее каракулевой шубы расстегнулся, показывая на шее яркое пятно павловопосадского шерстяного платка.
– …И в заключение, товарищи, коротко оглашаю приказы по институту от сегодняшнего числа.
Приказы теперь сначала зачитывали, а уж потом вывешивали на доску – в коридорах из-за плохого освещения все равно было ни черта не видать.
Нестеров думал о том, что через полчаса к нему на лекцию придет всего пятьдесят или, может быть, уже даже тридцать студенток. Это вместо довоенных двухсот пятидесяти человек обоего пола. Он уже давно перестал следить за численностью студентов на лекциях, просил только старост групп ставить галочки в специальном журнале посещаемости. Люди уходили на фронт, и он снова и снова отмечал, что в аудитории их становится все меньше. Он думал о том, дали ли электричество на его этаже. Нужно было вскипятить перед лекцией стакан кипятка, чтобы от холода не сел голос. Кипяток он заливал в старенький немецкий термос, клал его в мешочек (мешочек сшила жена – Прасковья Степановна) и прятал в стол, а вблизи студентов не доставал, чтобы никто не разглядел, что термос немецкий. Он размышлял о том, что, несмотря ни на что, нужно добиться, чтобы через несколько месяцев, когда наступит май, ему дали бы в помощь несколько человек для продолжения научной работы и выделили деньги. Чтобы послали его с этими людьми в учебное хозяйство, где он снова посеет вику – совершенно новую бобовую культуру, которая оказалась питательней для крупного рогатого скота, чем даже пшеница, которую всегда на этом богом забытом Северном Урале выращивали с трудом.
Он думал о чем угодно, только не о жене и не о еде – на эти две темы было давно им наложено табу…
…Ната отодвинула в сторону ноутбук, прошла в кухню, включила французский чайник. Что там у нас вкусненького есть в холодильнике? Ага, вчерашний лимон кружочками на блюдце и половинка вафельного тортика в коробке. Вот еще кастрюля с борщом. Ната заглянула в кастрюлю – осталось меньше чем третья часть. Кость торчит в середине красной овощной жижи, как шпиль неоготического собора. Оранжевые кружочки застывшего жира плавают на поверхности. Надо будет перед тем, как разогревать, вытащить их. А то все будут недовольны, и в первую очередь она сама, что все слишком калорийное.
Ната хмыкнула, усмехаясь. Надо еще разморозить фарш, чтобы к вечеру успеть сделать котлеты.
Она заглянула в коробку с тортом. Когда же мужики успели все доесть? Наверное, вечером, когда она уже ушла спать. Ну да, у нее разболелась голова. У нее всегда болит голова, когда что-нибудь не получается. Вот вчера не получался рассказ. Из-за этого в общем-то она и купила тортик. Пошла в магазин за морковью – и купила. Ну не только для себя, конечно. И Димка, муж, после работы присоединился, и Артем из университета приехал голодный и с порога закричал:
– Мам, что поесть?
Ната вчера борщ успела сварить перед самым их приходом. А второе не стала делать. Все сидела за этим рассказом, который не получался. Что она – каторжная, что ли, в один день делать первое и второе? И так все худеют. У Димки порядочное брюшко в сорок пять лет, Артем ходит на фитнес и без конца стонет, что ему нужно мясо, а она вечно делает какие-то пирожки. Ну да, Ната знает, что пирожки – очень вредно, но она без пирожков не может. Во-первых, под пирожки с чаем лучше пишется, а во-вторых, она помнит, как бабушка рассказывала, что она тоже девчонкой все худела-худела, а потом – бац! Война. И все стали сначала худые-худые, а потом опять толстые. Только не жирные, как хрюшки, а водянистые, отечные от голода. Потом еще долго все болели, но ничего, все-таки выжили. Некоторые только умерли. Кто послабее. Но бабушкин свекор, Натин прадед, академик, умер уже в пятьдесят четвертом, через девять лет после войны. И не от болезни – от старости. Бабушка тогда уже сама была замужем. И как раз в этом году родился Натин отец. Его и назвали в честь академика Борисом. А Натиного дядю, его младшего брата, Ната не знает, почему назвали Петром.
Ну что же, Ната сделала глоток из фарфоровой чашки. Хороший все-таки этот зеленый чай с жасмином. Откусила кусочек торта, вздохнула… Ладно, надо писать дальше. Раз худеем – фиг вам, а не пирожки.
…Академик был уже стар, даже очень стар. Но, несмотря на старость, его длинная, дынная голова – лысая, с небольшими темными пятнами на темени и висках – сидела на шее ровно и гордо. Коричневый пиджак с широкими, по краям слегка оттопыренными лацканами и орденом с левой стороны уже порядочно засалился на рукавах, но менять его на парадный костюм академик не хотел. В парадном костюме он хотел бы, чтобы его похоронили, и поэтому берег единственную оставшуюся черную пару. Что он себе еще позволял в этом промозглом, продуваемом зале – это намотать на шею кашне. А под пиджак надевал вязаную кофту. Очень мерзли руки и ноги, но академик не хотел, чтобы кто-то видел, что он мерзнет. Графин со стаканом стояли на столе, как и в прежние времена, но, хоть льда в графине не было, воду никто не пил. Любая простуда слишком опасна. Да и пить не хотелось.