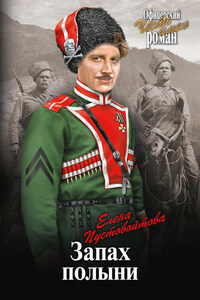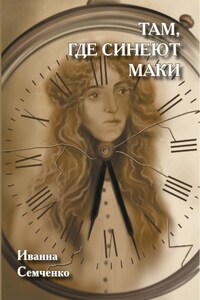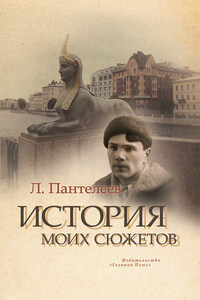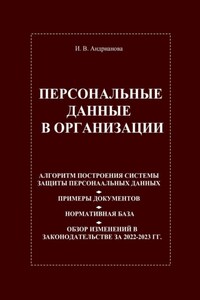Я услышала его имя, когда мне было лет двенадцать. Услышала как-то запросто, в обиходе, словно это была не персона нон грата для советского учебника истории, а рядовой человек – живой, то есть, как и все, кто меня окружает, нормальный, и представило его мне совершенно не таким, каким я его себе представляла на уроках истории. Было это в те времена, когда я, глядя в нашем сельском кинотеатре фильм «Ленин в Октябре», очень переживала за вождя революции, который шел в Смольный делать эту самую революцию: что будет, если он не дойдет?! Волновалась, хотя точно знала, что Ульянов-Ленин благополучно доберется до Смольного и оттуда будет руководить «революцией пролетариата». В то время я была уверена, что всё в жизни до революции было черно-бело-серым, без праздников и солнечных дней. И как здорово, что эта замечательная октябрьская революция произошла! А все атаманы-белогвардейцы – контра, которая хотела, чтобы народ жил именно в том, в черно-бело-сером мире, и не хотела ни счастья для народа, ни солнечных для него дней, а только чтобы все простые люди работали и работали, всю свою жизнь, безо всяких праздников и выходных… И поэтому сердце моё трепетало от одной только мысли: а что, если вдруг какой-нибудь коварный сыщик в черном котелке помешает Ленину добраться до Смольного, чтобы захватить власть, а потом построить для нас счастливую жизнь, в которой и солнце ярко светит, и трава зеленая, и дороги просторные, свободные, зовущие за горизонт…
Поразившее меня имя – Анненков – произнес мой подвыпивший отец, говоря что-то совершенно невозможное: что этот атаман, уходя за кордон, выступая на последнем параде, просил принародно всех жить дружно, никого не выдавать и ни на кого не доносить. Просил не проливать больше крови…
Это было непонятно и даже неприятно слышать, потому что получалось, что кто-то говорит неправду, то есть – лжет: учебник или мой отец.
В учебниках истории про атамана Сибирского казачьего войска написано было немного, но и то немногое ясно вырисовывало его образ – он только и делал, что порол или расстреливал «красных» и крестьян, питая к ним одну только ненависть. Поэтому рассказ отца раздражал, казался глупой фантазией подвыпившего человека. Я тогда еще не знала, что правда может быть беспощадной и неожиданной, бьющей, словно выстрел, наповал, но ощутила эту опасность и сделала вид, что вовсе не слышала отца. Ведь, в конце концов, что такое учебники истории, по которым я училась? Истина. Истина, как и все другие учебники – например, по арифметике или русскому языку. Иначе мир просто не мог бы существовать!
Но иногда отец вспоминал свое послереволюционное тяжелое, горькое сиротское детство, и я знала, что эти его воспоминания вовсе не фантазия, а истина. Но ведь его детство и не могло быть иным! Оно было родом из той России, из России, где все было только черно-серо-белым… Теперь-то все иначе!
Но сказанное отцом, а потом и услышанные мимоходом разговоры «про жизнь» людей посторонних, как бы я ни пряталась, постепенно открывали передо мной совершенно иную картину русской трагедии, дата которой так широко праздновалась в ноябре. И история, по которой я училась, стала менять свои очертания, терять свою непогрешимость, и в свете этих изменений революционные годы явились мне куда более зловещими, чем виделись сквозь призму старых хроник.
Моя жизнь тоже круто изменилась, когда в страну пришли времена перемен. «Вынесенная» ими за рубеж, я с удивлением обнаружила, что даже такое бесспорное и на глазах у всего мира произошедшее событие, как война с фашистской Германией, подается в странах, далеких от этой войны, мягко говоря, под другим углом зрения. Таким, что даже наша в ней Победа далеко не факт. Но еще большее моё удивление вызвало то, что наша социалистическая революция начала XX века описывается там в завидном единодушии с учебниками истории Советского Союза. Словно все, что касалось революции в России, повсеместно было писано одним пером, одной рукой: русские цари деспоты, жили в роскоши, а народ был порабощен, забит и нищ, именно царизм довел Россию до революции, и терпеть его народу, в конце концов, стало невыносимо…
Свою книгу я писала, опираясь как на воспоминания моих близких, проживших вместе со своей страной все, что было отпущено ей и её народу, так и используя записи о пережитом людей мне совершенно неизвестных, покинувших своё Отечество не по своей воле из-за ужаса революционных событий. От их потомков я услышала фразу, красноречиво говорящую о жгучем желании русских беженцев вернуться домой: «Пусть меня расстреляют, но без переводчика…» В ней всего вдоволь – и горечи, и тоски по Родине. Если суждена смерть, то пусть она случится дома, а не на чужбине.
Так или иначе, но именно слова отца, в своё время сказанные благодаря лишь пьяной храбрости, сделали атамана Бориса Анненкова для меня из далекой, почти мифической, зловещей фигуры человеком земным, живым. Что-то внутри меня, несмотря на точное знание того, где находится истина, все же не могло допустить, что мой отец лжет. И при всяком удобном случае я старалась разузнать про атамана как можно больше. Хорошо помню, как поразил меня факт, что известный декабрист, которому в учебниках истории было уделено большое внимание за то, что он в далеком декабре 1825 года поднял руку на царя, за что попал на каторгу, был родственником атамана. Но его сын, народившийся как раз на каторге, – стал убежденным монархистом, а его внук, тот самый атаман Борис Анненков, остался до конца верен государю и, можно сказать, отдал свою жизнь за монархию.
Уже работая над книгой, я вновь увидела фильм из детства. И так же, как в детстве, замерла сердцем – неужели?
Неужели дойдет?
Неужели не найдется ни единого сыщика, ни бдительного дворника, ни благородного офицера или простого мужика, чтобы его остановить? Ведь прольются реки крови, повсюду воцарится разруха и голод, и слово «беспризорник» прочно войдет в революционный лексикон! Неужели и такие невинные мелочи в сравнении с пролитой кровью, как плоды работы по электрификации России, присвоят себе люди, не имеющие отношения к ее подготовке? А система обязательного бесплатного четырехлетнего образования, при которой школа от ученика должна быть не далее четырех верст, так и останется нереализованной в стране, которая к революционным годам имела уже более двухсот самолетов (в Америке в то время их было менее десяти). И страна без царя так и не достигнет показателей последнего мирного 1913 года…