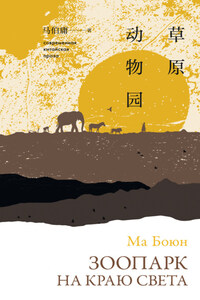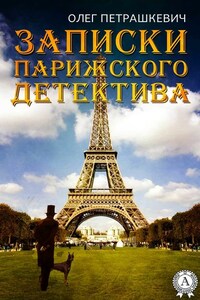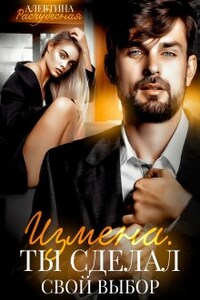Как ни крути, человеческая память наполовину правдива, наполовину обманчива, и подлиннейшие, точнейшие ее детали сосуществуют с вымыслом, порожденным фантазией, – тем, чего на самом деле никогда не было. Вымысел пробивается из почвы правды, тянет, как тополь, свои ветви и вновь врастает в землю. Правда и вымысел сплетаются, сплавляются, просачиваются в каждую клеточку друг друга. И вот наконец они сливаются воедино, да так, что даже самому рассказчику подчас не разобрать, где кончается правда и начинается выдумка.
Чифэн[1] – моя родина, здесь я вырос. Родина для меня – сказка, полная ностальгии и чудес. Я помню, как спускались на степь белые облака, превращаясь в овец, помню силуэты одинокого волка и антилопы, бредущих сквозь пыльную бурю. Среди бетонных высоток нет-нет да и спрячутся голубоватые обо[2]: стоит подойти к такому поближе – и он вдруг разверзнется, и изнутри вылетит ширококрылый орел, взмоет в небо.
Моя память вся из этих образов. Я и сам не знаю, какие из них видел собственными глазами, какие сочинил в детстве, а какие – грезы, принесенные ветрами былых времен.
Мне нравится это чувство, нравится сновать между правдой и иллюзией, соединять две реки, столь же непохожие, как Цзинхэ и Вэйхэ[3], в один общий поток.
История, которую я вам поведаю, той же природы. Быть может, это честный рассказ о событиях, всеми забытых, а может, химера из сновидений, что снятся чифэнцам из поколения в поколение. Я не творец, я лишь добросовестный летописец. А если кто-то спросит, верна ли моя история и откуда она взялась, я скажу, что она, как и я сам, родилась здесь, в Чифэне, здесь и выросла и мало-помалу стала одним целым с реальным миром.
И стало так.
Эта история берет начало не в Чифэне, а в Гуйхуа[4], городе в Суйюани.
В эпоху поздней Цин, во времена правления Гуансюя[5] в Гуйхуа прибыл из далекого Лондона миссионер. Звали его Джек Джордж, но в Китае он представлялся Хуа Госяном; будучи посланником «Внутрикитайской миссии»[6], он надеялся добиться успеха в этом оживленном уголке китайской Монголии[7], принести слово Божие на монгольскую землю.
Хуа Госян приехал вместе с женой. Они сняли дом у торговой компании «Юннин» в переулке Шуйцюй и превратили его в первую протестантскую церковь – «Обитель Иисуса». Сперва Хуа Госян действовал по старинке: читал проповеди, раздавал Библии. Увы, местное население оставалось к его стараниям равнодушно, и как он ни бился, тех, кто ходил в церковь и внимал его проповедям, было раз-два и обчелся, что уж говорить о желающих принять веру.
Жена Хуа отлично разбиралась в западной медицине. Пока муж проповедовал, она открыла в переулке Саньсинчэн, что рядом с улицей Шуньчэн, больницу, где лечила страждущих западными методами, отчего снискала большой почет. Выздоравливая, пациенты исполнялись к ней благодарности, и она, пользуясь случаем, убеждала их перейти в христианство. За несколько лет она привлекла больше последователей, чем сам Хуа Госян.
В Гуйхуа был храм бога богатства, построенный на второй год правления Юнчжэна[8]. Прямо перед храмом возвышались широкие двухъярусные театральные подмостки, так называемая Музыкальная башня. Каждый год в день поклонения божеству музыканты и актеры устраивали в Башне представления, развлекали публику, и народу набегало столько, что яблоку некуда было упасть, даже в Новый год не встретишь такого веселья – это было самое оживленное место во всем Гуйхуа. Как-то раз Хуа Госяну случилось проходить мимо. При виде толпы он невольно поднял глаза к небу и тяжело вздохнул:
– Я бы жизнь отдал за то, чтобы у моей церкви было столько прихожан!
Жена, услышав эти слова, попыталась его утешить, но ненароком задела Хуа Госяна за живое, и он не на шутку с ней поругался. Прежде между супругами царило взаимоуважение, но из-за пустячной размолвки они отдалились друг от друга. От переживаний жена разболелась, да так, что слегла. Хуа Госян страшно раскаивался. Он написал миссионерскому обществу письмо с просьбой отправить им несколько открыток с пейзажами Англии, надеясь, что они развеют женину тоску.
В британском управлении «Внутрикитайской миссии» у Хуа Госяна остался старый приятель. Он-то и рассказал ему в ответном письме занятную новость: в Европе изобрели недавно одну штуку – внешне она похожа на фотоаппарат, но если посветить и покрутить ручку, можно показывать движущиеся картинки. Называется этот прибор «синематограф». Приятель посоветовал Хуа Госяну раздобыть такой для жены и показать ей родные края, глядишь, она и отвлечется.
Обрадовавшись, Хуа Госян попросил разузнать, где можно найти синематограф. Наконец прибор был куплен и, пройдя через множество рук, доставлен в Гуйхуа. Жена с ним и вправду пошла на поправку. Выздоровев, она сказала Хуа Госяну: картинки у этой машины прямо как живые, чудеса, да и только, но стоило ли ради нее одной так тратиться, не лучше ли продать синематограф, чтобы покрыть расходы миссии?
Хуа Госяну жалко было расставаться с покупкой. Он подумал: раз вся эта история началась у храма бога богатства, пусть там она и закончится. Ему вдруг пришла в голову великолепная идея.
Через десять дней жители Гуйхуа стали замечать расклеенные по всему городу афиши: в такой-то день такого-то месяца в Музыкальной башне перед храмом бога богатства их ждет удивительное зрелище, представление состоится вечером, совершенно бесплатно и проч., и проч. Все решили, что это реклама новой театральной труппы. Повеселиться в Гуйхуа любили, поэтому в назначенный день у храма было не протолкнуться. В Музыкальной башне, однако, было тихо; на сцене стоял какой-то носатый иностранец с чудным ящиком. Стена у него за спиной была закрашена белой краской.
Иностранец этот был не кто иной, как Хуа Госян. Видя, что народу собралось достаточно, он запустил синематограф, и на белоснежной стене вдруг ожили кадры «Прибытия поезда», «Выхода рабочих с фабрики»[9] и фильмов с английскими пейзажами. Увидев, как на стене появляются из ниоткуда живые люди, живые лошади, зрители перепугались и чуть не разбежались. Но вскоре они поняли, что это всего лишь иллюзия, успокоились и смотрели как зачарованные.
Публика не расходилась до самой полуночи, снова и снова любуясь новинкой – электрическим театром, и только когда явились власти и всех разогнали, представление закончилось. Зажегся свет, миражи исчезли, и зрители неохотно разбрелись по домам. Так древнюю степь впервые озарил свет кино, и для многих очевидцев это стало самым невероятным событием в жизни, таким, о котором вспоминают даже спустя много-много лет.