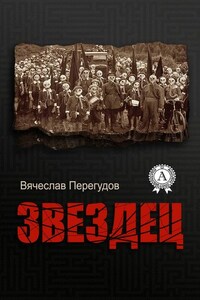У Валентина Афанасьевича было три сына: первый, второй и третий. Ничем они друг от друга особо не отличались, и внешностью, и именами своими были примерно схожи. Рождались они (почему-то) зимой, в диапазоне от раннего декабря по поздний январь, только с незначительной разницей, так – в год-два.
Рождение первого, Трофима Валентиновича, было отмечено полуторадневным уходом от реальности всей бригады электриков Управления Городских Инженерных Сетей.
Второй сын, Ефрем Валентинович, был явлен миру под одобрительный гул компании рабочих Завода Столовых Вин и гостей города, в лицах: старца Аристарха, человека с неясными целями в жизни, и отрока Гриши, неделю как получившего справку об освобождении из ИТК № 15, и следовавшего к месту постоянной прописки. Рождение третьего, Николеньки, Валентин Афанасьевич обмывал единолично, весьма уединенно расположившись на тесной кухне дома № 16, спрятанного от глаз обывателя в кривозаборных лабиринтах улицы, названной именем былинного полярника Отто Юльевича Шмидта.
Завершив ритуал чествования младенца Николая Валентиновича, Валентин Афанасьевич обмяк уже не очень молодым телом, и стал мирно спать, а наутро, проснувшись, сходил на двор по малой нужде, после попил теплой чайниковой воды, и как-то совсем некстати, то есть абсолютно невпопад и без видимых причин, умер.
Жена его, Александра, заметив, что Валентин Афанасьевич беспричинно и невпопад умер, пошла к соседке, и сказала, что муж ее умер, и надо бы вернуть деньги, которые и так давно надо бы вернуть. Соседка пошла к бывшему киномеханику Сереже, и сказала, что у Александры муж умер, и надо Сереже вернуть ей деньги, чтобы она смогла вернуть деньги Александре. Бывший киномеханик Сережа, шмыгая фрагментарно- обмороженным носом, отправился прямиком к женщине Валентине, дабы истребовать потраченные на любовь к последней кровные сто двадцать пять рублей, так как взаимного чувства женщины Валентины данная сумма не принесла, но и возвращена не была.
Где-то ближе к полудню улица имени полярника Шмидта, совершив полный цикл взаимообразных визитов, утихомирилась, так и не дав Александре сколько-нибудь вразумительного ответа. По этой причине пришлось Александре спешно продавать мужнин мотоцикл. Тем же днем был создан некий совещательный орган. В скорбный комитет вошли: вдова усопшего, отставной киномеханик Сережа, осколок темного прошлого человечества – поп Сибирцев, старуха Кускова с глухой и глупой сестрой Анастасией, и городской поэт-самородок Выприков.
Вопросы с гробом, памятником и местом захоронения были скоро решены, и на повестку встала проблема – во что покойного обрядить? Вырученные от продажи мотоцикла деньги быстро закончились, свою одежду на такое дело никто давать не хотел, причем не из жадности, а из чистого суеверия. Дело в том, что ни одного цивильного костюма, в сколько-нибудь приличном состоянии, в гардеробе Валентина Афанасьевича не обнаружилось. Но имелась форма ефрейтора артиллерии, в полном комплекте. Прозаседав до полуночи, комитет, большинством голосов, постановил обрядить покойного в гимнастерку, пилотку, а на ноги – сапоги..
– Хрень вы сочинили, – в пилотке человека хоронить. – возмутился поп Сибирцев.
– Так не чужая же форма. – возразила Александра, Он в ней из армии демобилизовался. Чем плохо?
Поп упрямился и своей малопонятной позиции не сдавал.
– Непотребство!
– Чем плохо?
– Непотребство!
– Чем?
– А пошла ты к черту!..
Сережа, не имеющий в нечутком сердце своем почтительности к служителям культов, окрысился.
– Ты, святой отец, – дурак набитый, хоть и во всяких внутренних органах служил, а красоты истинной все равно не догоняешь.
Высказав это Сережа наклонил голову, оценивая открывшийся перед ним вид.
– По мне так хорошо. Благообразно.
– Звездочки нет. Без звездочки он – как из штрафбата..
– Да уж- более миролюбиво сказал поп.
Попробовали пилотку снять, но тут же вернули на место… В пилотке мертвый Валентин Афанасьевич был не так страшен. Что ни говори, а военный головной убор украшает мужчину. Особенно если мужчина категорически мертв.
Когда скорбная процессия, состоящая из пяти живых и одного неживого, двигалась по городской окраине, прохожие подходили, и с любопытством заглядывали в красный гроб.
– От это рожа! Никак военный в гробу?!
Мальчик Вилен, приобнял дурную лицом дочь зубного техника Захаркина, и сплюнув на тротуар, громко сказал:
– Дезертира вохра на мосту застрелила.
– Это откуда же дезертир? На срочника, вроде, не похож: старый. – удивился проходящий мимо гражданин.
– Он с войны прятался, у Прыгунковых в свинарнике.
– У-уу, – прошло по толпе.
– Угу, – ехидно сказал мальчик Вилен, и увел дочку зубного техника в заросли черной смородины.
Люди неспешно унесли Валентина Афанасьевича за черту, невидимо отделяющую город от негорода, и закопали во влажную, прохладную, пахнущую прелыми листьями, землю. Потом установили сваренный из стальных прутьев, похожий на новогоднее дерево, памятник, с колючей и обжигающе-красной звездой на навершии, слегка вкопали в грунт, прихваченную возле конторы Завода Столовых Вин, скамейку, на которой, красивыми ровными буквами, было вырезано:
«На этой скамейке, я, слесарь шестого разряда Никитин, был влюблен в бухгалтера расчетной группы Эльвиру Шнек.»
Поп Сибирцев долго смотрел на ровные, любовно вырезанные слесарем шестого разряда буквы, после на носатых грачей, молчаливо сидящих на грязной, кривой березе и равнодушно созерцающих ритуал погребения Валентина Афанасьевича.
– Всюду жизнь, – глубокомысленно изрек поп, и мелко перекрестился.
Шли годы. Сыновья Валентина Афанасьевича выросли и перестали быть похожими.
Николай Валентинович покинул родительский дом и обосновался где-то совсем далеко, на самом-самом крайнем Севере, там где все, на что не взгляни – снег, олени и Кола Бельды. Известий от него, кроме поздравительной открытки матери: «Целуем отмороженными ртами ваше прекрасное человеческое лицо» не было. Время соткало плотное одеяло тайны о среде обитания Николай Валентиновича, о его ежедневных мыслях и чаяниях.
Трофим Валентинович все время жизни своей болел каким-то орфанным заболеванием, настолько редким, что ни один анализ мочи и кала не мог подтвердить или опровергнуть его наличие, поэтому вместо лечения его два раза садили за тунеядство. Красота сибирской тайги не исцеляла Трофима Валентиновича, и он, вернувшись в родные края, упрямо продолжал болеть, пролеживая целыми сутками на железной, с провисшей панцирной сеткой кровати, и лишь изредка выходя покурить, съесть тарелку борща или выпить с мужиками вина.