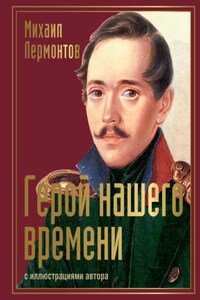[1]
Сабля моя давно была вложена, и я стоял в интервале между Московским каре и колонною Гвардейского экипажа, нахлобуча шляпу и поджав руки, повторяя себе слова Рылеева, что мы дышим свободою. – Я с горестью видел, что это дыхание стеснялось. Наша свобода и крики солдат походили более на стенания, на хрип умирающего. В самом деле: мы были окружены со всех сторон; бездействие поразило оцепенением умы; дух упал, ибо тот, кто в начатом поприще раз остановился, уже побежден вполовину. Сверх того, пронзительный ветер леденил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших так долго на открытом месте. Атаки на нас и стрельба наша прекратились; ура солдат становилось реже и слабее. День смеркался. Вдруг мы увидели, что полки, стоявшие против нас, расступились на две стороны, и батарея артиллерии стала между ними с разверстыми зевами, тускло освещаемая серым мерцанием сумерек.
Митрополит[2], посланный для нашего увещания, возвратился без успеха; Сухозанету, который, подъехав, показал нам артиллерию, громогласно прокричали подлеца – и это были последние порывы, последние усилия нашей независимости.
Первая пушка грянула, картечь рассыпалась; одни пули ударили в мостовую и подняли рикошетами снег и пыль столбами, другие вырвали несколько рядов из фрунта, третьи с визгом пронеслись над головами и нашли своих жертв в народе, лепившемся между колонн сенатского дома и на крышах соседних домов. Разбитые оконницы зазвенели, падая на землю, но люди, слетевшие вслед за ними, растянулись безмолвно и недвижимо. С первого выстрела семь человек около меня упали: я не слышал ни одного вздоха, не приметил ни одного судорожного движения – столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии. Совершенная тишина царствовала между живыми и мертвыми. Другой и третий выстрелы повалили кучу солдат и черни, которая толпами собралась около нашего места. Я стоял точно в том же положении, смотрел печально в глаза смерти и ждал рокового удара; в эту минуту существование было так горько, что гибель казалась мне благополучием. Однако судьбе угодно было иначе.
С пятым или шестым выстрелом колонна дрогнула, и когда я оглянулся – между мною и бегущими была уже целая площадь и сотни скошенных картечью жертв свободы. Я должен был следовать общему движению и с каким-то мертвым чувством в душе пробирался между убитых; тут не было ни движения, ни крика, ни стенания, только в промежутках выстрелов можно было слышать, как кипящая кровь струилась по мостовой, растопляя снег, потом сама, алея, замерзала.
За нами двинули эскадрон конной гвардии, и когда при входе в узкую Галерную улицу бегущие столпились вместе, я достиг до лейб-гренадеров, следовавших сзади, и сошелся с братом Александром; здесь мы остановили несколько десятков человек, чтобы, в случае натиска конницы, сделать отпор и защитить отступление, но император предпочел продолжать стрельбу по длинной и узкой улице.
Картечи догоняли лучше, нежели лошади, и составленный нами взвод рассеялся. Мертвые тела солдат и народа валялись и валились на каждом шагу; солдаты забегали в домы, стучались в ворота, старались спрятаться между выступами цоколей, но картечи прыгали от стены в стену и не щадили ни одного закоулка. Таким образом, толпы достигли до первого перекрестка и здесь были встречены новым огнем Павловского гренадерского полка.
Не видав, куда исчез брат мой, я поворотил в полуотворенные ворота направо и сошелся с самим хозяином дома[3]; двое порядочно одетых людей бросились также в ворота, и в ту минуту, как первый пригласил нас войти, картечь поразила одного из последних, и он, упав, загородил нам дорогу.
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru