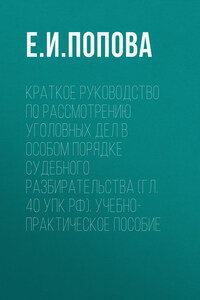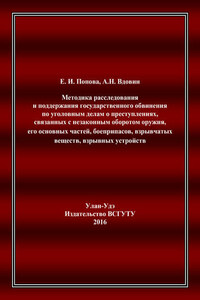"Материнское счастье подобно маяку, освещающему будущее" А. Некрасов, «Материнская любовь»
Раньше я был храбрым. Некоторые говорили, что храбрость моя – не от большого ума. Может быть и так. Я никогда не думал наперед, давал волю кулакам, разгонял мишуру крепким словцом. Чувствовал себя королем жизни, думал, передо мною любая беда расступится. Я ведь всех тащил. Генриха тащил, даже Краусса.
Краусс. Вспоминаю про него, и дрожь по всему телу. Мне уже не стыдно. Я псих – так все считают. Вслух не скажут, нет. Но у них на лицах все это есть… знай, Толик – меня списали. Так и подохну здесь, под белым потолком. Ну и пусть. Задрали кошмары. Врачи говорили, что пару раз я просыпался посреди ночи и пытался выпилиться. Бился головой об стенку. Странно, этого я не помню. А вот кошмары помню. Лекарства не помогают. Еще бы. Я же видел то, что не вылечит ни один укол, ни один грёбаный порошок. Я видел… ее.
Подчас я теряюсь. Башню срывает, и я рыдаю. Рыдаю и ору, рву на себе волосы. Мало их у меня осталось, волос. Да и зубов тоже. Мамаша говорит, что это от недоедания. Наивная. Просто я видел. Видел то, от чего у меня, сука, умерла часть мозга. Я отупел, сломался. Иногда я – это я, тогда я лежу, матерюсь и трясу головой, когда вспоминаются кошмары. А иногда я… нечто иное. То, что бьется до крови башкой об стену. То, что рыдает и орет, забившись в угол. Я, нахрен, раздвоился. То, что я увидел в доме Краусса… раскололо меня.
Мне интересно: кто из нас двоих быстрее загнется? Надеюсь, что это будет тот я, у кого кошмары. То сопливое существо, что сменяет меня на посту, бесится от кошмаров, но уже не помнит их. А вот я лежу, пускаю слюну и помню. Дерьмо.
Теперь уже редко я думаю о прошлом. Поди, блин, разберись, что сон, а что реальность, где ты, а где не ты. Не до чего больше. А с другой стороны… это самое прошлое – причина того, что я здесь. Причина того, что я вконец спятил. Это Краусс… нет… она таким меня сделала.
Ведь в кошмарах….
В кошмарах….
Сновидениях, что приходят во мраке….
Я вижу ее. Ее лицо. Если это вообще можно назвать лицом….
Я познакомился с Крауссом, когда учился в университете. Сам он был с медицинского, а я постигал науку математику. Вообще говоря, на почве математики мы с ним и сошлись. Этот немецкий черт интересовался всяким: геологией, архитектурой, инженерным делом, биологией… но ему, блин, в тот вечер приспичило наведаться во двор математического факультета в поисках собеседника. Чудной он был. Всегда был двинутым. Скитался по факультетам, приставая со своими долбаными расспросами. Дитя малое, слава богу, ума палата.
Мы тогда с Генрихом были. Ну, Булочниковым. Генрих Булочников – тот еще размазня, скажу я вам. Маленький, щупленький – только башка круглая, с такими же круглыми иллюминаторами. Блеял, как овца, трясся, как тростник, а еще учился фигово. Зато девчонки его любили – как питомца, естественно. Так вот, о чем я…. А, да. Генриху Краусс сразу приглянулся. А я вот немцу не доверял. И правильно, сука, делал, как оказалось!
Как бы то ни было, так случилось – мы трое были вместе. Я – шалопай, раскольник, заноза в заднице. Генрих – игрушка, а не человек, хвостик наш, малахольный, бледный, с красноречивыми такими прыщиками. Краусс – глыба, холодная глыба, сучий компьютер, жёсткий диск которого был забит дохрена знаниями. Как повелось, я бежал впереди, бедокурил, как еще сказать… заваривал кашу. Булочников плелся позади, охал и потел, бормотал хрен пойми что. А Краусс был, как бы, чем-то между. Гребаный колдун, вурдалак, пузатый дьявол. Всегда важный, размеренный. Все да у него с расстановочкой. Как начнет говорить – так все его слушай. Не отвертишься. Уж очень интересно. Колдун, я же говорю.
Краусс был автомат. Вот реально, без души человек. Стихи он ненавидел, прозу, впрочем, тоже. Сам я читал спасительно мало, и кажется, Крауссу это нравилось. А вот Булочников любил почитать книжки. Смешно – такой его набили эти книжки философской требухой, что аж вонять начал. Краусса это бесило. «Ничегошеньки нет, друг мой – говаривал он – Кроме вещей материальных, ве-щес-твен-ных!». Генрих бы поспорил, по глазам видно было. Да куда там! Кишка тонка, сука.
Кишка… кишка Генриха….
Иной раз Краусс доводил его до слез. Да, представьте, этот малахольный, Булочников, чуть что, так рыдать в три ручья. Раз пустил я слух, что он мочится в постель – так все изволили поверить. Хотя… Краусс и меня мог пронять. Уж слишком жуткая у него манера была. Так скажет, так посмотрит на тебя – и прямо видишь, как он срывает с себя фальшивую кожу, а там… холодная машина, готовая тебя задушить. Холодными, сука, руками.
Краусс… он был холодным, как лед….
Короче, мы сумели сдружиться. Я немца не боялся. Скорее, был настороже. Краусс же, как мне всегда казалось, людей не понимал и понимать не хотел, а потому не особо ломал голову над тем, какой там хрен между нами. Ну а Булочников… такие всегда плетутся сзади, потому что без других они ничто. Не смотрели бы мы за этим, блин, размазней, другие раздавили бы его, не заметив.
Так было до тех пор, пока не появилась Адель. Да черт меня дери, если бы не эта девчонка, не было бы ничего! Как нашла она нас, как поняла, что именно мы… нужны ей? И тогда, и в доме Краусса….
Она занималась физикой. А параллельно копалась в оккультной чуши. Материалист Краусс сразу возненавидел Адель за этот ее интерес. Его грёбаная инертная туша, которая передвигалась со скоростью айсберга, постоянно подкатывалась к ней и изливала свое негодование. Адель смеялась, широко улыбаясь… так, знаете, с зубами. Потом мы подтянулись. Я был как всегда смел, как гусар и туп, как желудь. Адель это понравилось. Булочников был как всегда пискляв, как утенок, и жалок, как завалившийся под ванну обмылок. Адель это еще больше понравилось.
Так нас стало четверо. Она связывала нас какими-то, ей богу, энергетическими нитями. Смеялась, разила наповал умнейшими шутками, фантазировала о непристойном и актерничала, подводя нас, натурально, к краю безумия. Булочников иногда оговаривался и называл ее «мамой». Черт, она любила строить из себя няньку, когда жестокий Краусс в очередной раз задаст этому придурку Генриху материалистскую трепку. Я же просто-напросто запал на нее. И даже знаю, блин, когда. Был дождь. Я остался допоздна послушать ее бредни о Парацельсе и его рецепте гомункула. Пошла меня провожать, а тут полило. Зонта не было ни у меня, ни у нее. Но черт, зонт ей был явно не нужен. Потому как она скинула туфли и принялась плясать. Ах, дьявол, как она смеялась! Как звонко пела! Помню, подумал: «Вот, блин, дурочка». И тут же у меня и ёкнуло. Я любил ее. А вот Краусс….