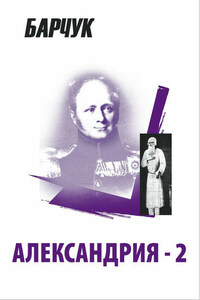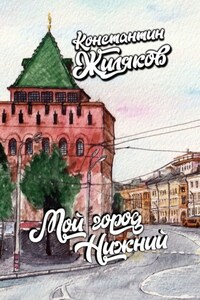Наша камера больше походит на палату в какой-нибудь захолустной провинциальной больнице. Побеленные известкой стены. Три металлические кровати, стоящие вдоль стен, наглухо привинчены к каменному полу. Окрашенный половой краской стол стоит под маленьким зарешеченным окном, спрятанным у самого потолка. Оно выходит на север, поэтому лучик солнца к нам заглядывает редко. На считанные минуты после полудня. Когда выпадают солнечные дни. А они в Москве – большая редкость. Раньше я этого не замечал. Был занят. А сейчас с таким нетерпением жду этого мимолетного солнца! Выглянет солнышко, проскользнет сквозь решетку лучик, и сразу затеплится в душе надежда, что скоро, когда-нибудь, может быть, я смогу смотреть на солнце, греться на нем целый день, месяц, год. Мне кажется, что это мне никогда не надоест.
Но хватит лирики. Продолжим описание камеры. Высокий потолок с готическими сводами придает помещению некий монументальный вид. Попадая сюда, сразу ощущаешь себя не просто сидельцем заурядного СИЗО, а VIP-узником, «железной маской» или графом Монте-Кристо, попавшим в Бастилию или замок Иф по подозрению в заговоре против короля.
У изголовья каждой кровати – одинаковые тумбочки из ДСП. Внутри джентльменский набор: туалетные принадлежности, смена нижнего белья и чистые носки, журналы, книги, варенье… Скоропортящиеся продукты – в холодильнике. Он стоит в углу, слева от окна, подальше от параши. Дребезжит жутко, особенно по ночам. Что с ним только не делали: наклоняли вперед и назад, вправо и влево. Бесполезно. А иногда вдруг сам, ни с того ни с сего, возьмет и перестанет дребезжать. Неделю молчит, две. Зато потом отрывается по полной программе, в двойном размере. Того и гляди разорвется.
Отхожее место вделано в пол. С нижнего этажа торчит труба канализации, а сверху по такой же ржавой, но меньшего диаметра трубе постоянно льется вода. С шипением и свистом. Сутки напролет. На слив не раз жаловались тюремному начальству. После каждой жалобы приходит сантехник, что-то ковыряет в трубах. Шипение на время исчезает, а потом снова начинается. Хорошо хоть перегородка отделяет парашу от камеры. Когда по большой нужде приспичит кому-нибудь, другим хоть не видно, как он нужду справляет. Но двери, как в нормальном туалете, здесь нет. Сидишь на корточках и обозреваешь себя в потускневшем от времени зеркале, что висит над ржавым умывальником.
Он находится у меня в ногах. Вначале я спал на другой кровати, ближе к холодильнику. Но после суда над Мэром перебрался на его койку, подальше от дребезжащего чудовища. Сейчас моя прежняя кровать пустует. В камере нас двое. Кроме меня еще Редактор. Интереснейший тип. Но о нем расскажу позже подробно. Он того заслуживает.
Еще в нашей камере есть телевизор – белый Samsung. Он показывает только два канала – первый и РТР. НТВ можно только слушать. Изображение комнатная антенна из‑за толстых тюремных стен, к сожалению, не улавливает.
Стационарная радиоточка передает одно Всероссийское радио.
Из коридора послышались приближающиеся шаги конвоира. Лязгнул замок. Со скрипом отворилась тяжелая дверь. Это, наверняка, по мою душу. И точно.
– Ланский, на выход!
Я откладываю на кровать недописанный лист и шариковую ручку, набрасываю на себя олимпийку и направляюсь к двери.
– Выпейте, Михаил Аркадьевич. Это капотен. Он снизит давление. А то на вас лица нет, – протягивает мне таблетку и стакан воды Редактор.
Я выпиваю и откидываюсь на подушку. Значит, я уже в камере. Как вернулся, не помню. Окончание допроса тоже, как в тумане. Когда речь зашла о гибралтарских счетах, следователь перешел на крик. А я не могу, когда на меня кричат. Особенно такие юнцы. Ему еще и тридцати нет. Для него мое дело – вопрос дальнейшей жизни. Доломает меня, карьера обеспечена. А не сломает, так и просидит в следаках до пенсии. Вот и старается. Бьет копытом. Землю роет. Из шкуры лезет. Голос же у него противный, фальцет. Когда кричит, словно камнем по стеклу елозит. У меня сразу перед глазами – красная пелена. В лицо вонзаются тысячи иголок. Язык немеет. Он, глупый, думает, что я в эти мгновения расколюсь, а я вообще говорить не могу.