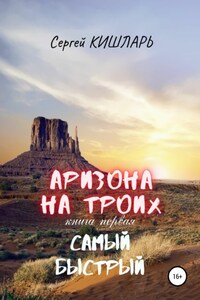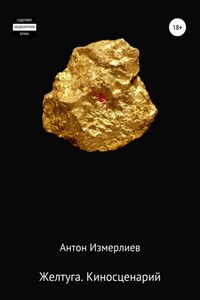Лицо Чарльза Дана – редактора и владельца нью-йоркской газеты «Сан» – было скрыто сложенной вчетверо и ещё пахнущей типографской краской газетой, из-за которой доносился сиплый старческий голос:
– Паровоз завизжал, предупреждая об отправлении, и сердце моё сжалось от тоски. Прощаясь, я поцеловал руку девушки, на секунду замер в склонённой позе, скрывая нахлынувшие в глаза слёзы и, не сказав ни слова, бросился в вагон.
Мистер Дана приспустил газету, глянув поверх неё на стоящего перед массивным письменным столом Генри Шелдона.
Жалюзи прикрывали окна кабинета, ограничивая доступ встающему за Ист-Ривер яркому солнцу ровно настолько, чтобы позволить утренним лучам скупо цедиться в узкие просветы и подобно газетным строкам ложиться частыми световыми полосами на стены, на стол, на персидский ковёр. Ложились и на самого редактора, скрывая его глаза под бликующими стёклами круглых очков в тонкой оправе.
Впрочем, Генри и так было понятно какое впечатление произвёл на шефа его последний путевой очерк из Аризоны. Любой сотрудник газеты знал: если покрытый редкими седыми волосами палец редактора постукивает по столешнице в такт ритмике повествования, значит мистер Дана удовлетворён написанным. Если палец замер – тут к гадалке не ходи – шеф внутренне напрягся и готов порывисто потянуться за перьевой ручкой чтобы исправлять, чёркать, ставить сердитые чернильные кляксы.
– Если меня спросят, что такое счастье, – продолжил цитировать редактор, не просто отсчитывая пальцем слова и печатные знаки, а будто дирижируя звучащей в его душе симфонией. – Не задумываясь, отвечу: счастье – это штука, которую можно понять только задним числом. По-настоящему я осознал это тогда, когда вагон качнулся и мои аризонские друзья – Алисия и Джед – стали уплывать вместе с перроном в манящую голубую даль, туда, где я оставил лучшие дни своей жизни.
Газета с шорохом упала на стол. Мистер Дана удовлетворённым жестом провёл ладонью по седой, делающей его похожим на проповедника, бороде.
– Браво, Генри! Вы заставили переживать и плакать всю читающую Америку. Захватывающая интрига. Яркие персонажи. Точные детали нравов и быта – что ещё надо для блестящего очерка. А описания природы! А драматизм событий! А точность и выверенность каждого слова!
«А тираж, существенно подросший за время выхода моих путевых очерков! – мысленно продолжил Генри. – А уныние конкурентов! А доходы! Может, пора подумать о прибавке к жалованию?»
Мистер Дана, постучал по кнопке настольного звонка:
– Синтия! Два кофе!
Генри сделал сосредоточенное лицо, пряча непроизвольную саркастическую усмешку… Ладно, кофе тоже неплохо.
– Но не время почивать на лаврах. – Редактор встал, подошёл к стене, сплошь заставленной стеллажами, на которых красовалась богатая коллекция старинного китайского фарфора. – Корби и Уэлш – вот кто меня волнует сейчас больше всего.
Мистер Дана был страстным коллекционером китайского фарфора и всерьёз собирался составить конкуренцию Британскому музею и Лувру вместе взятым. У него была огромная коллекция, которой не хватило места в особняке на Мэдисон-авеню, поэтому часть экспонатов перекочевала в рабочий кабинет. Любовно поправляя чайник времён династии Сун, редактор продолжил:
– Отношения этих учёных таят в себе ещё не один скандал. После взрыва на палеонтологических раскопах в Колорадо оба профессора вот уже полгода избегают общения с журналистами, и вдруг Уэлш даёт согласие на эксклюзивное интервью нашей газете. Не «Нью-Йорк Геральд», которая финансировала его последние экспедиции, а нам. При этом он выходит не на руководство издания, а непосредственно на вас. – Вопросительно вздёрнув седые лохматые брови, мистер Дана обернулся к Генри. – Вам не кажется это странным?
– Кажется.
– И?
– У меня нет этому объяснений, ведь мы с ним даже не знакомы. Я правда несколько раз пытался попросить его об интервью: ездил в университет, подкарауливал у дома, но так делали многие репортёры едва ли не из всех нью-йоркских изданий.
– Будем считать, что он прочёл ваши очерки и остался впечатлён ими.
Генри ждал другой постановки вопроса: «Браво, Генри! Благодаря вашей репортёрской хватке, благодаря умению убеждать людей, благодаря личному обаянию, вы добились права на интервью, которое утрёт нос всем конкурентам, включая Джозефа Пулитцера». Впрочем, похвал на сегодня было достаточно, и Генри скромно промолчал лишь слегка пожав плечами. Тем более что согласие на интервью было действительно неожиданным.
Мистер Дана предложил Генри сесть, грузно опустился на диван рядом с ним.
– Когда он ждёт вас?
– Через час у себя на Вашингтонской площади.
– Определили тактику?
– Начну с обычных вопросов, а под конец обрушу на него всё, что удалось разузнать о взрывах в Колорадо, о нападении на экспедицию профессора Корби, о кражах на железной дороге. Он, конечно, будет отнекиваться, но я попытаюсь сыграть на его ненависти к Корби. Возможно, ненавязчивая похвала в адрес конкурента разгорячит профессора и развяжет ему язык.
В знак согласия редактор кивнул головой и, заканчивая разговор, по-отечески похлопал Генри по плечу:
– Вы – будущее нашего издания.
Окрылённый похвалой, Генри не стал дожидаться кофе, а поспешил покинуть редакцию. В кэбе он задумался так, что не видел ничего вокруг. Только один раз отвлёкся от мыслей, когда при выезде на шумный Бродвей кэбмен поспорил за право проезда со слишком ретивым коллегой.
Надо было как-то разговорить профессора и вытащить из него всю подноготную его отношений с профессором Корби. Требовалось не просто интервью, требовалась сенсация! В свете нового журнализма, запущенного Джозефом Пулитцером вместе с покупкой им газеты «Нью-Йорк Уорлд», старые журналистские методы, даже если они были подкреплены профессионализмом, уже не привлекали читателя.
Квартира профессора оказалась некой смесью кабинета, провинциального музея и холостяцкой берлоги. На стенах – графические рисунки – реконструкции динозавров. За стёклами многочисленных шкафов – окаменелые кости, треснувшие яйца доисторических ящеров, камни с отпечатками летучих мышей, стрекоз, рыб.
На столе – раскрытые книги, ворох писчей бумаги, исписанной мелким неряшливым почерком, брошенная поверх засохшей чернильной кляксы перьевая ручка. Пресс-папье лежит на боку, в промокательной бумаге – хаос зеркально отпечатанных чернильных строк.
На диване – скомканный шотландский плед, пара диванных подушек. Похоже, работая допоздна, профессор спал здесь же в кабинете. На полу лежал обитый коричневой кожей деревянный чемодан с блестящими медными наугольниками и яркими наклейками на боках. Похоже, хозяин собирался в дорогу.