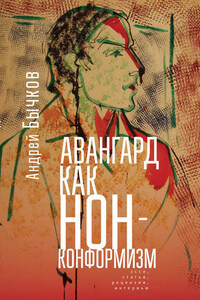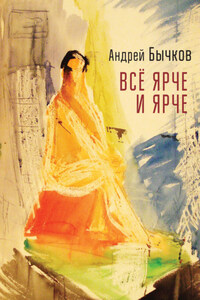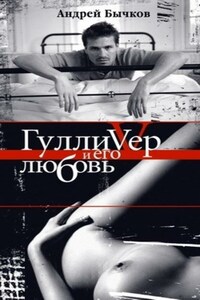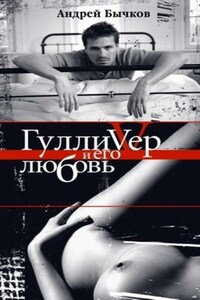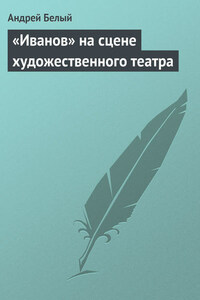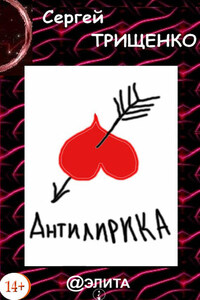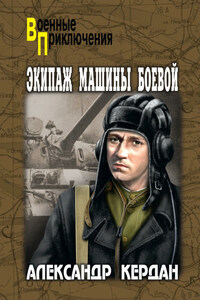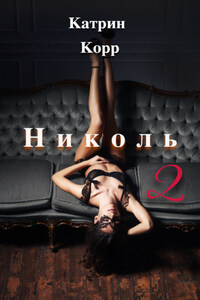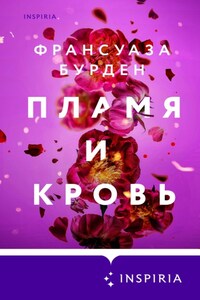Новый русский литературный субъект
«Частный корреспондент», 21.04.16
Истина отбрасывает нас жить в заблуждении. Правда удобнее, правду можно разделить с другими. Искусство не говорит об истине, оно разыгрывает ее так, чтобы ее можно было угадать. Чтобы ее мог узнать не гражданин, не член сообщества, а человек. Искусство говорит человеку: повернись к себе, видишь – ты, слышишь – ты, мыслишь и выражаешь свои мысли – ты. Твоя свобода – в твоей субъективности. Ты – сам. Так начни же с себя. Искусство занято собой. Ван Гог пишет дерево так, как он его видит. Он искривляет его потому, что чувствует искривление самого мира (искривление мира «проходит» через него). Кафка знает о невозможности, о забвении, о тщете, о скрытом и непонятном законе, но он также знает и о возможности, и о надежде – и вот появляется кафкианская логика; Кафка – новый логик. Мир – в уникальностях, а не в универсалиях. Цель – раскрыть субъективность в себе, чтобы, как говорит Фуко, получить доступ к истине. А это невозможно без риска. Субъект должен рискнуть собой, чтобы раскрыть себя. Но рискнуть собой – это рискнуть и другими, своим статусом среди других, своими отношениями с другими, рискнуть общепринятыми ценностями. И субъект, прежде всего, выговаривает себе право заявить об этом. Так, например, если я пишу текст, то обращаю его к уникальности каждого из читателей, а не к тому, что их объединяет. С заботы субъекта о себе начинается забота о каждом. С заботы о каждом начнется забота и обо всех. Все это старые, сократические еще истины, с каких должна бы начинаться (и продолжаться) новая русская литература двадцать первого века, если в ней возникает (или хотя бы отражается) новый русский субъект.
Вероятно, те «все», те «мы», которые читают эти заметки, давно уже готовы напомнить мне о так называемой реальности, о тех грандиозных социальных и политических силах, перед которыми «я» каждого просто ничто. «Мы» могут посоветовать мне посмотреть телевизор или зайти в интернет. Но за каждым событием я увижу, прежде всего, конкретный, инициирующий его, персонаж. Со своего коллективистского полюса «мы» всегда хотят подчинить полюс «я». Но адепты коллективизма скрывают, что между двумя этими полюсами – разрыв принципиальный. Проникая в «я», «мы» делают вид, что никакого разрыва нет, и так навязывают «я», чтобы оно говорило от их имени, так правят поверх онтологической пропасти. И вот уже возникают иерархии, субординации, и «мы-редакторы» подсказывают мне, что я неправильно пользуюсь лексикой, что, например, писать ««мы» делают вид» – ошибочно. Но разве «я» не ищет «здесь» именно «своего» правила («соврать по-своему» как сказано у Достоевского)?
Я не скрываю своей «террористической» деятельности, я хочу подвести под здание современной русской литературы антропологическую бомбу. И если я, Андрей Бычков, писатель, утверждаю, что «я» – мера всех вещей, то, тем самым подразумеваю, что и мой читатель – мера всех вещей. Я хочу сказать, что книга – художественная, – которую читатель берет в руки, должна быть мерой не только моего, но и его «я». Что это значит? Это значит, что художественное произведение должно обращаться не к объективности, а к субъективности. Точка отсчета – в читательском «я», в его «ядре», в его сингулярности как субъекта, а не в той или иной его оболочке – социальной, политической, конфессиональной. Не православие, самодержавие и народность, не русские против евреев (или евреи против русских), не демократия и не либерализм, а – «Я», его стихия и форма. Вот какова бы должна быть новая русская литературная антропология.
«Мы» любят разглагольствовать о добре, о правде, о справедливости, но если я против «мы», вдобавок и не скрываю, что занимаюсь «террористической» деятельностью, то, значит ли это, что я хочу зла и учу здесь злу? И лгу ли я? А разве «мы» не хотят испытать здесь истину на вечность?
Сегодня «мы» вновь претендуют на историю русской литературы. Но я позволю себе процитировать «мы» замечательного русского философа Поршнева: «Оскар Уайльд бросил парадокс: «Непокорность, с точки зрения всякого, кто знает историю, есть основная добродетель человека. Благодаря непокорности стал возможен прогресс, – благодаря непокорности и мятежу». В этом афоризме сквозит истина, по крайней мере, для всякого, кто действительно знает историю. А ее знал уже Гегель и поэтому тоже говорил, что движение истории осуществляет ее «дурная сторона», «порочное начало» – неповиновение». И разве не этими словами должна вдохновляться и сегодняшняя русская словесность? Со времен Лермонтова просит бури русское «я». Еще Андрей Белый писал: «В свете индивидуалистического символизма открылся религиозный смысл русской литературы». И разве право на суверенную личность это не самое ценное, что было отвоевано у режима в девяностые? Но где же литература «я»? По обе стороны баррикад цветет коллективистская беллетристика-публицистика. А Запад, великий русский Запад как оплот субъекта, как крепость «я», как право на свой собственный стиль, на свою собственную форму, на свои, идущие вразрез с общепринятыми, ценностями – где он в современной русской литературе?
Взрыв – движущая сила современности, примерно так говорит Слотердайк. Все началось с изобретения двигателя внутреннего сгорания, где взрываются бензинные пары. Писатели «мы» («прилепи-мы», «лимоно-мы», «быко-мы»…), хорошо об этом «осведомле-мы». Социальное топливо заливается в бак, и в «мы»-книгах вертятся литературные энергии бензина. Раскаленный коллективистский газ молекул гонит читателя «к справедливости». Но расстояния, увы, давно уже измеряются парсеками, да и на дворе – «кварковые времена»; так что на бензиновых «двигателях» далеко теперь не уедешь. Сказать построже: посредством таких книг никогда не достичь себя, потому что в них не явлены могущественные трансцендентальные силы субъекта. Эти книги обречены остаться дурацкими правильными коробками внутреннего социального сгорания. Эти книги лишены свободы и никогда ничего не сделают и для раскрытия свободы субъекта, прежде всего потому, что они лишены оригинальности, лишены речи и языка. Они являются не произведениями искусства, а всего навсего – заурядными литературными произведениями, движущими читателя на старых механических и тепловых (пусть и высокого градуса) скоростях. Но издательско-премиальная бюрократическая система, увы, сегодня способна возить и ездить только так. Ей нужно простое средство передвижения, потому что простое ближе к идеологии, ближе к правилу. «Мы» проще «я», да и старше. «Я», как вечно-новый ницшеанский ребенок всегда хочет стихии и ищет своей и только своей формы, «я» хочет из «себя», из той самой, сингулярной точки, где даже и электронам-то с кварками места не найдется – но только так «я» и может