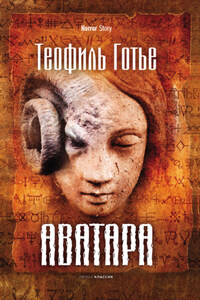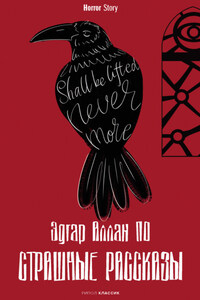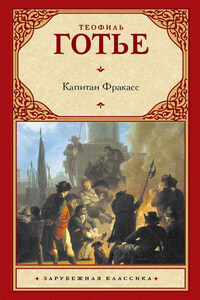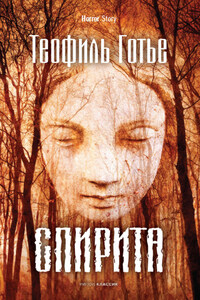Аватара: страдания молодого двойника
Он бросил чувства в область раздвоенья…
К. Бальмонт
При жизни у Теофиля Готье (1811–1872) была репутация бурного выдумщика, после смерти – последовательного, или даже сурового, эстета. Казалось, он сам сразу стал мраморным памятником после смерти, и каким он был капризным, чудаковатым, вспыльчивым и прихотливым, помнили разве самые близкие друзья. В этом он напоминает Гоголя – в быту неустроенный, жалующийся на все, брезгливый, но вскоре после смерти никто не сомневался, что он классик, биографические сведения о котором могут только сбить с толку. А основной момент биографии Готье довольно прост – он был литературным поденщиком, писавшим и критику, и рассказы, и романы для заработка, в чем он видел проклятие своей жизни. Человек, живущий в Париже, должен постоянно трудиться и спорить с прижимистыми издателями; сам современный город, с его дороговизной, необходимостью ходить в театры и на выставки, забирает слишком много средств, и возместить их можно, только работая днями и ночами. По сути, Готье первым открыл это свойство больших городов – превращаться в механизмы, перемалывающие труд и отдых всех своих жителей.
Но в отличие от множества его современников, популярных беллетристов и фельетонистов, Готье отличался небывалой разборчивостью и разносторонностью. Он первым следил за модными тенденциями в театре, живописи, скульптуре и архитектуре, прекрасно мог разложить музыкальное или пластическое произведение на составляющие, узнав, как именно они действуют. В наши дни существуют обычные психологи и зоопсихологи, а Готье был психологом искусства, который понимал, что как раз этот оттенок на полотне Буше или эта нота Бетховена создают эстетическое впечатление, которое потом, постепенно понятое публикой, и определит дух эпохи. Если Готье как романтик чувствовал себя стоящим над толпой, то только в этом смысле психолога искусства, который видит роковые механизмы истории искусства там, где прочие отмечают лишь мастерство, талант или ажиотаж толпы вокруг.
Повесть «Аватара» печаталась с продолжением в газете в 1856 году: для массовой литературы тогда было обычной практикой каждую неделю давать продолжение, не зная, к чему повесть выведет в конце – число «серий» могло зависеть даже от щедрости или скупости издателя. Этот год был для Готье очень тяжелым: когда вышли первые главы произведения, до него дошло ужасное известие, что в одном из темных парижских переулков повесился на тесьме от фартука его друг и единомышленник, поэт Жерар де Нерваль. Эрудит, авантюрист, своеобразный философ, которого как поэта-интеллектуала критики оценили только в XX веке, Нерваль был для Готье примером, как должен жить поэт, и конечно, совершенно комедийные и даже водевильные сцены второй части «Аватары» – попытка справиться с этим несчастьем.
Начинается повесть с нового определения скуки, того, что англичане называли «сплином», причем со ссылкой на Нерваля – образ «черного солнца» взят из его стихов. До романтизма скука понималась как болезнь, меланхолия считалась сверхчувствительностью, но романтизм открыл скуку как общее состояние автоматизма, когда ты не можешь вполне отдавать отчет в своих действиях, когда ты все время, как автомат, подчиняешься социальным условностям, и поэтому не способен найти ту точку, в которой оказываешься свободен. Об этом автоматизме потом много размышляли психологи: достаточно указать на синдром Клерамбо-Кандинского – особое психическое расстройство, которое состоит в том, что человеку кажется: его тело и ум действуют помимо него, находятся как бы в заговоре против своего хозяина. Потом внучатый племянник психиатра Виктора Кандинского и племянник художника Василия Кандинского, русско-французский философ Александр Кожев будет рассуждать, что эта скука заложена в самой сердцевине рационализма Декарта, в принятии «я» как автоматически данного тебе, тем самым противопоставляя французскому философу Гегеля – как создателя диалектики свободы.
Чтобы не пересказывать сюжет, следует заметить только, что служащая завязкой беседа врача и пациента, молодого человека, воспроизводит спор Вольтера и Руссо. Для умирающего влюбленность – это факт культуры, влюбиться в прекрасную аристократку – это и означает стать настоящим наследником мировой культуры со всеми ее формами ухаживания и выражения чувства. Тогда как для врача влюбленность – это дикость, только дикари теряют голову при виде прекрасной женщины, только они начинают сумасбродствовать и выполнять странные ритуалы. Конечно, это иронический взгляд на позиции двух вождей Просвещения: если Вольтер понимал любовь риторически, как тему, вокруг которой можно выстроить прельстительные речи, то для Руссо любовь как раз разрушала всю привычную риторику и становилась только механизмом письма, иначе говоря, тем опосредованным объяснением в любви, которое заставляет забыть о ее природной «дикости». При этом, конечно, Руссо (как прекрасно показал Жак Деррида) не мог отказаться от производства письма, которое уже само, помимо его воли, устанавливало различия между дикостью и цивилизацией, влюбленностью и глубокой любовью. В этом смысле главный герой повести – это, конечно, неудачливый Руссо, который не умеет писать письма, а владеет только языком жестов, но для него разучиться владеть своими жестами – значит разучиться жить.
Посредничество Готье между наследием французского Просвещения и Бодлером, посвятившим Готье свои «Цветы зла», не ограничивается только адаптацией первого. Рычагом, запускающим интригу всей повести, становится богохульное размышление не то автора, не то героя о том, что Всевышний тоже часто скучает, и чтобы развлечься как в водевильном театре, он и создает ситуацию несчастной любви. Такое богохульство встречалось и у Нерваля, например, в его поэтической переработке этюда Жана-Поля Рихтера «Мертвый Христос говорит с высоты мироздания о том, что Бога нет». После этого и оказывается, прямо по словам героя Достоевского, что если Бога нет, то все позволено – хотя, как мы уже сказали, Готье, гоня от себя мрачные мысли, предпочел дать ряд развлекательных до комизма сцен, предопределив тем самым комические голливудские решения главного сюжета книги – обмена телами.
И действительно, хотя этот сюжет восходит к немецкому романтизму, его двойникам, «доппельгангерам», да и сам Готье называл Гофмана главным своим учителем при написании этой повести, в современных кинофильмах мы встречаем его исключительно как сюжет подмены, вызывающей смех: вспомним все эти легкомысленные истории про то, как муж и жена просыпаются в телах друг друга. На самом деле идея «обмена телами» восходит к средневековому философскому учению о «суппозиции» – способности слова как бы подменять вещь, указывать не только на то, что вещь существует, но и на то, что она имеет значение в качестве существующей вещи и может стать предметом логических операций под видом слова. Слово «суппозиция» означает также и «подмену», например, подмену новорожденных детей, и Готье выжимает максимум из всех этих значений: обмен телами позволяет прожить жизнь до конца, рискнуть жизнью, и, собственно, вообще сделать жизнь осмысленной, поместить ее внутрь логики, а не внутрь мнимостей, вроде мимолетных увлечений и ложных образов.