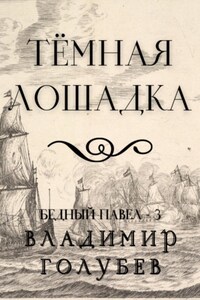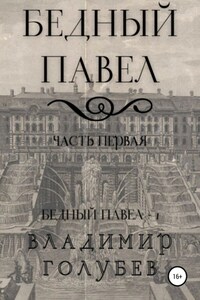Душа была пуста, боль, непонимание, неверие – всё смешалось… Воздуха не хватало. Может, я умираю? Я сидел, смотрел в окно, вокруг бегали мама, Потёмкин, в глаза заглядывал Белошапка, слуги крутятся – какая-то суета, а сил встать не было. Потом будто услышал, как кто-то поёт, протяжно так, красиво. Голосов было много, они сливались, переплетались. Я узнал – осмогласие1. Я слышал его во дворце Разумовского и в его домовой церкви.
Я осознал, что происходит. Отогнал жестом докторов, роившихся вокруг. Оперся на ручку кресла, встал, вцепился в плечо испуганного Потёмкина.
– Пойдём, Гриша! – слова выкашливались, как мокро́та.
– Куда, Павел Петрович?
– В церковь!
Григорий помог дойти мне до малой дворцовой церкви, где я сел на скамеечку и просто дышал воздухом, пахнущим ладаном, и молился. Прибежал отец Леонтий, который стал моим духовников, с тех пор как Платон был рукоположён в епископы Санкт-Петербургские. Он всё понял и просто начал вслух читать молитвы. Ровный речитатив отца Леонтия, горящие свечи, образа, внимательно смотрящие на меня, запах ладана и воска – мне становилось легче. Постепенно краски вернулись.
Я так всё хорошо рассчитал, продумал. Всё должно́ было быть хорошо. У нас должно́ было получиться. И у нас получилось! Вот только детали – они всё меняют. Зачем мне такой мир, где я победил, но нет Маши? Бог показал мне, что смеётся надо мной и моими планами. Но как-то не полностью, что ли…
Когда я вышел из церкви, уже стемнело. Я хотел отъехать в Петергоф, побыть одному, послушать море. Но спокойно пережить своё горе мне так и не удалось. На пути из церкви меня встретил бледный Белошапка и сообщил, что меня нижайше просит прибыть к нему Алексей Григорьевич Разумовский.
– Что случилось? – ответил я ему, почти равнодушно, придавленный своим несчастьем. А Гришка сказал:
– Помирает он! Проститься хочет! – ох, как! Я-то думал, что больнее уже не будет, но резануло как ножом, все чувства опять взбунтовались, голова закружилась, но мир остался очень чётким. Я резко встряхнулся и махнул слугам.
– Что случилось? – спросил я Гришку, накидывая кафтан и выбегая наружу. Осёдланный конь и конвой уже ждали меня.
– Да вот, говорят, как в Петербурге всё это началось, он слёг и больше не встаёт! А сейчас послал человека сказать, что помирать будет, Павлушу просит! – голос Белошапки сорвался на всхлип, холодный и сырой воздух обжигал мне лицо. Я не понимал, что же происходит в мире, и молил Господа, чтобы застать Алексея Григорьевича живым.
Бросив коня слуге около дворцового крыльца, я бегом кинулся в комнаты к Разумовскому. Человек, которого я давно считал своим отцом, лежал в постели, одетый в расшитый мундир, украшенный всеми орденами и наградами. На белом, как морская пена, лице его, казалось, жили только глаза, которые по-прежнему смотрели на меня с нежностью и жалостью.
– Алексей Григорьевич! Что с Вами?! – просто взвыл я.
Тот слабой рукой махнул находящимся в комнате брату, племянникам и слугам. Те вышли, и мы остались наедине.
– Умираю я, Павлуша! Чую я, смерть за мной пришла! Не могу я уйти, с тобой, мальчик мой, не попрощавшись. – Я, уже не сдерживаясь, зарыдал, и прижался к нему. Я гладил его по старым дряблым щекам, и только повторял:
– Батюшка! Батюшка! Простите меня! – слеза медленно, как во сне, потекла по его мертвеющей щеке.
– Павлушенька, воистину любил я тебя как сына своего! Прости меня, старика, что бросаю тебя в такой момент! Прости ты меня, сынок! Старый я стал, слабый! Не хватило мне сил дотерпеть! Прости меня, мальчик мой! – голос Алексея Григорьевича угасал, и я понимал, что он покидает меня. Я плакал, прижавшись к нему, сжимая его ладони, чувствуя, как они холодеют.
Просидел я так час с лишним, пока не нашёл в себе силы поверить, что его больше нет. Потом встал, утёр лицо, вышел из комнаты и позвал ожидающих за дверями родственников и слуг. Старичок-священник, что причащал умирающего, подошёл ко мне и, молча, погладил меня по голове. Как я снова не заплакал, не понимаю…
Это был уже второй человек, который был мне ближе других, что ушёл от меня навсегда. Боже! Как же мне было больно!
Я провёл в доме Разумовского ещё около получаса, пытаясь прийти в себя. Как остекленевший я сел на коня, всё было как во сне. Спать я не мог, сидел перед камином и смотрел на огонь. Люди во главе с мамой не оставляли меня ни на секунду. Я иногда успокаивающе улыбался им…
Весь следующий день я молился, работать не получалось. Ночью опять не спал. Отправил родных спать, а за мной следил Белошапка. Но уже под самое утро примчался Карпов – верхами. Это для него было совершенно нехарактерно, Емельян побаивался лошадей, и то, что он прискакал… Он был одет очень небрежно, вид имел совершенно безумный и несчастный, глаза красные и вытаращенные.
– Ты что, Емельян? – мне началось казаться, что я уже смотрю на всё как-то со стороны.
– Михаил Васильевич там! Отходит он! Уж не знаю, как и… Но Вы всё же его любили и я… Я вот…
– Боже, да что же происходит? Что? – уже не сдерживаясь, заорал я.
Емельян, путаясь в словах, объяснил мне, что старый учёный при обороне Зимнего сильно простудился. Он не думал о себе, бегая по морозу в одном камзоле, часто распахнутом. Недугов у Ломоносова было уже множество, и новую болезнь сразу даже не заметил. А вот после моего прибытия, когда всё успокоилось, Михаил Васильевич понял, что заболел, и хворь его уже тяжёлая.
Я слишком был занят подавлением мятежа и мало обращал внимания на окружающих, а оказалось, что мой старинный друг уже несколько дней лежит дома в горячке. Врачи бегали вокруг него, но помочь не умели. И вот теперь он понял, что ему не победить болезнь.
Я бросился к нему. Мороза я не чувствовал. Белошапка, сдержанно ругаясь, обмотал мне лицо шарфом. Я скакал с ощущением, что опаздываю к очень-очень важному…
Что же, я не успел принять его последний вздох, моего дорогого друга, соратника и учителя… Рядом с ним были его дочь, зять и Эйлер – старый слепой математик прибыл к своему умирающему товарищу.
Эйлер плакал, не стесняясь. Он передал мне предсмертную просьбу Ломоносова – сберечь его научное наследие. Учёный протянул мне огромный свёрток бумаг – последние работы академика, которые он в спешке заканчивал уже на ложе смерти. Господи, когда же закончится этот кошмар! Сколько же ещё будут уходить близкие мне люди? Кто ещё уйдёт от меня этой кошмарной зимой?
Боль прорвалась. Смертей было очень много. Да, детали – они всё меняют… Я не ждал такого и теперь платил за свои ошибки. И пусть душа моя просто разрывалась от боли! Но не во мне же дело! В маме, в Гришке, в Захаре, в Эйлере, во всех людях, которые поверили мне, и которые шли против меня! Мне надо держаться!