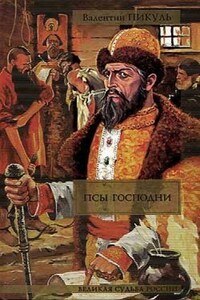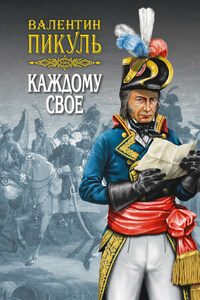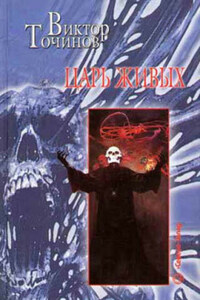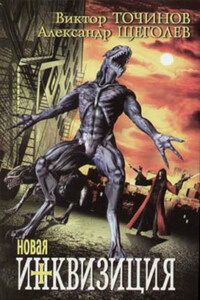Электричество уже освещало бульвары Парижа и кратеры доков Кронштадта; люди привыкали к разговорам по телефону; по рельсам Гросс-Лихтерфальде прополз первый в мире трамвай; Алеша Пешков служил поваренком на пароходе, а Федя Шаляпин учился на сапожника; автомобиль, похожий на колымагу, готовился отфыркнуть в атмосферу пары бензина, служившего ранее аптечным средством для выведения пятен на одежде, когда здесь, в душистой Ницце, доживал дряхлый старик, которому не нужны ни телефоны, ни трамваи, ни автомобили, – он был весь в прошлом, и 19 октября, в день лицейской годовщины, ему грезилось далекое, невозвратное:
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к закату своему,
Кому ж из нас под старость День Лицея
Торжествовать придется одному?
Их было 29 юношей, выбежавших на заре века в большой и чарующий мир, – старик затепливал перед собой 29 свечей, а потом в глубоком раздумье гасил их робкое пламя пальцами, даже не ощущая боли ожогов. Он торжествовал вдали от родины, в пустынном одиночестве: перед ним, дымясь и оплывая воском, тихо догорала последняя свеча – свеча его жизни…
Светлейший князь Александр Михайлович Горчаков!
Он был последним лицеистом пушкинской плеяды.
Он стал последним канцлером великой империи…
Ницца жила на свой лад, весело и сумбурно, и никому не было дела до старика, снимавшего комнаты в бельэтаже дома на бульваре Carabacel. Кто бы догадался, что еще недавно он повелевал политикой могучей державы, к его словам чутко прислушивались кабинеты Берлина и Вены, Парижа и Лондона. А теперь старческие прихоти обслуживали камердинер из итальянцев да сиделка из немок. Поочередно они приносили ему дешевые обеды из траттории Лалля; старец мудро терпел несвежее масло, равнодушно мирился со скудостью итальянского супа. По вечерам его выводили на шумные бульвары, и Горчаков (воплощение старомодной элегантности!) снимал цилиндр перед дамами, улыбаясь им впалым, морщинистым ртом. Он произносил юным красавицам любезности в духе времен де Местра и Талейрана, которые сейчас, на закате XIX века, звучали забавным архаизмом. Как это и бывает со стариками, Горчаков забывал недавнее, но зато великолепно помнил детали минувшего. Заезжие в Ниццу русские считали своим долгом нанести визит канцлеру; они заставали его сидящим на диване в длиннополом халате, с ермолкой на голове; в руках у него, как правило, был очередной выпуск журнала «Русская старина» или «Русский архив».
– Подумать только, – говорил он, – люди, которых я знал еще детьми, давно стали историей, и я читаю о них… истории. Я зажился на этом свете. Моя смерть уже не будет событием мира, а лишь новостью для петербургских салонов.
Его часто спрашивали – правда ли, что он занят работой над мемуарами? В таких случаях Горчаков сердился:
– Вздор! Всю жизнь я не мог терпеть процесса бумагомарания. Я лишь наговаривал тексты дипломатических бумаг, а секретари записывали… ноты, циркуляры, преамбулы, протесты.
– Говорят, вы были другом декабристов?
– Нелюбовь ко мне Николая Первого тем и объясняется, что, зная о заговоре, я никого не выдал… День восстания еще свеж в памяти. Я приехал в Зимний дворец каретой цугом и с форейтором, как сейчас уже никто не ездит. Единственный я был в очках, что при дворе строго преследовалось, но для ношения очков я имел высочайшее монаршее разрешение. Помню, когда начали стрелять, мимо меня проследовала императрица Александра и от страха нервически дергала головой. А граф Аракчеев сидел в углу с очень злым лицом, на груди его не было ни одного ордена, только портрет Александра Первого, да и тот, если не изменяет память, без бриллиантов…
– Правда ли, князь, пишут историки, будто вас много лет третировали по службе?
Этот вопрос для Горчакова был неприятен:
– Да. И я носил в кармане порцию хорошего яда, дабы отравиться сразу, если нарвусь на оскорбление чести.
С большой осторожностью его спрашивали о Берлинском конгрессе, завершившем войну за освобождение Болгарии.
– Ах, не говорите о нем! – отвечал Горчаков. – Именно там я понял, что изъездился и ни к черту не гожусь. У меня была в одном экземпляре секретная карта, на которой имелось три черты. Красная – границы желаемого Россией, синяя – максимум наших уступок, желтая – предел отступления. И вдруг я вижу, что в мою карту тычется носом проклятый русофоб Дизраэли – Биконсфильд! Я шепчу Шувалову: «Что это? Измена?» А граф глазами показывает на карту, лежащую передо мною. Там тоже три черты: красная, синяя, желтая. Но карта английских претензий. Оказывается, мы с Дизраэли по ошибке обменялись тайными планами. Он глядит в мою карту, а я смотрю в английскую, и оба недоумеваем. Тогда-то я и сказал государю: «Finita la commedia… увольте на покой!»
Недавно народовольцы казнили Александра II, и Горчаков показывал гостям карманные часы фирмы Брегета; на крышках часов виднелись профили Наполеона I и Александра I, а под стеклом скрывалась прядь рыжеватых женских волос.
– Мне их прислали из кабинета покойного государя. Это личные часы Наполеона, который в Эрфурте подарил их нашему царю. Они идут хорошо, я не жалуюсь. Но в письме из Петербурга не указали, чей это локон. Теперь я часто думаю – может, Жозефины Богарнэ? Или Марьи Нарышкиной, которую обожал Александр, пока она не изменила ему с поручиком Брозиным? Или волосы графини Валевской? Это уже призраки…
Наконец Горчаков ослабел; его посадили в поезд и отвезли в Баден-Баден; от курзала неслась музыка Оффенбаха, а старик в забытьи твердил стихи, которые посвятил ему Пушкин:
И ты харит любовник своевольный,
Приятный лжец, язвительный болтун,
По-прежнему философ и шалун,
И ты на миг оставь своих вельмож —
И милый круг друзей моих умножь!
Последний лицеист закрыл глаза и отошел в круг друзей, давно принадлежавших русской истории. Это случилось 27 февраля 1883 года, – XX век уже стучался в крышку гроба. Горчакова опустили в землю, и он тоже стал нашей историей.
* * *
Со времени его смерти минуло 15 лет; по Неве уплывали к Островам белые речные трамваи, из-под жемчужных раковин садов-буфф выплескивало щемящие душу вальсы-прощания; был теплый и хороший день, когда в здании министерства иностранных дел у Певческого моста проходила обычная церемония приема послов. Министр Муравьев молча вручил каждому из них бумагу, и дипломаты, никак не ожидавшие сюрприза, с удивлением пробегали ее глазами… Это был знаменитый циркуляр о разоружении, призыв России к созыву мирной конференции государств, обладающих армиями и флотами.