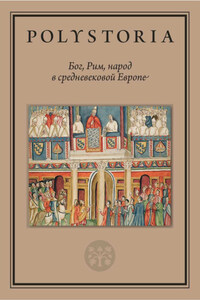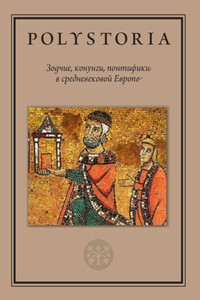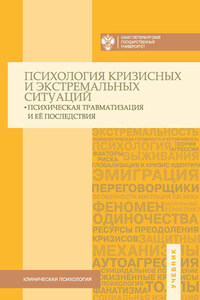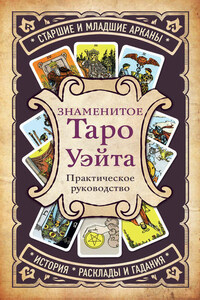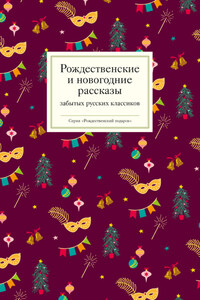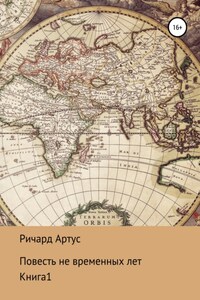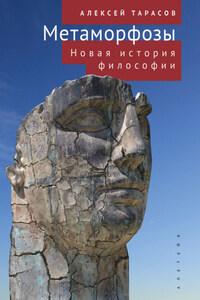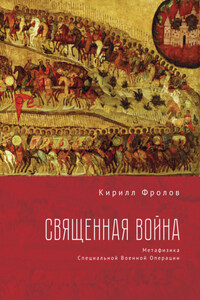Составители и ответственные редакторы:
Михаил Бойцов, Олег Воскобойников
Авторы:
Илья Аникьев, Михаил Бойцов, Андрей Виноградов, Олег Воскобойников, Михаил Дмитриев, Ульяна Доброва, Василий Долгополов, Алексей Корчагин, Анна Литвина, Александр Русанов, Наталья Тарасова, Федор Успенский
Рецензенты:
профессор кафедры истории средних веков МГУ им. М.В. Ломоносова доктор исторических наук Рустам Шукуров;
профессор кафедры всеобщей истории МГИМО(у)
доктор исторических наук Олег Кудрявцев
Издание подготовлено при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ
В оформлении обложки использован фрагмент акварели XVII в. по утраченной фреске из Латеранского собора, на которой папа Бонифаций VIII благословляет народ, открывая Юбилей 1300 года. Амброзианская библиотека в Милане, рукопись 1622 f. inf. 227 (File: BonifaceVIIIjubile.jpg – Wikimedia Commons)
© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2021
© Составление. Бойцов М.А., Воскобойников О.С., 2021
Михаил Бойцов
Вводные замечания
Очень уж широкие темы вынесены в заглавие нашей книги – шестой, выпущенной Лабораторией медиевистических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»[1]. Разумеется, на последующих страницах мы можем лишь бегло их коснуться, обозначить свой интерес к ним – не более.
Представлениям о Боге в Средние века посвящены тысячи исследований, вышедших за несколько последних веков, и наверняка появятся новые тысячи в столетиях грядущих – насколько хватит жизни академической истории. Римом и народом медиевисты занимались, конечно, несопоставимо меньше, но и тут наберутся целые библиотеки. Возможно, когда-нибудь и мы постараемся монографически разобрать с разных сторон хотя бы какую-нибудь грань одного из таких больших сюжетов. Пока же сохраняем верность принципу множественной истории, давшему название сначала собственным трудам Лаборатории, а с недавних пор и более широкой по составу книжной серии.
За свежее слово «Полистория» мы не устаем благодарить авиньонского скриптора начала XIV в. Джованни Каваллини де Черрони. Оказалось, что созданный им образ «множественной истории» не только подходил к разнообразию повествований о былом в его собственное время, но и на удивление точно соответствует сегодняшней картине прошлого, ставшей «множественной» как никогда ранее. Никогда ранее историки не находили такого изобилия тем для своей работы. Никогда ранее они не пользовались столь разнообразными исследовательскими приемами. Никогда ранее не звучало такого разноголосия в историографии. А главное, никогда ранее историкам не было так отчетливо видно, что к подлинному пониманию прошлого можно приблизиться, лишь обсуждая различные взгляды на него, а не диктуя начальственным тоном якобы единственно мыслимые правильные его оценки. Сегодня история может быть только «множественной».
Ощущение, что слово polystoria удачно передает состояние новоевропейского исторического знания, возникло, впрочем, не у нас первых. Испанский филолог Бисенте Тинахеро Мартинес именно под этим названием опубликовал в мадридском журнале Revista contemporánea в самом начале 1880-х годов серию очерков о развитии европейской историографии в XVII столетии[2]. Стоит похвалить автора за незаурядный кругозор: он упомянул даже Юрия Крижанича, хотя и отнес его ко времени правления на Руси некоего «царя Алехандро»[3]… Тинахеро Мартинес собрал свои очерки в книгу, но издал ее, как говорят, тиражом всего 50 пронумерованных экземпляров, что превратило ее в библиографическую редкость, нам пока – увы – недоступную[4]…
Содержание нашей новой книги не очерчивается полностью тремя ключевыми словами – Бог, Рим, народ, – хотя, пожалуй, каждую «историю» в ней можно так или иначе связать по меньшей мере с одним из них.
Право рассуждать о Боге естественно было предоставить не первому встречному, а князю Церкви – кардиналу Франческо делла Ровере, будущему папе Сиксту IV. Ему лучше многих других удастся показать читателю, сколь сложен вопрос о всемогуществе Божием и имеются ли у этого могущества хоть какие-нибудь пределы. Покажет он заодно и то, какими интеллектуальными инструментами оперировали богословы XV в., причем меняясь ими порой с правоведами. В самой возможности такого обмена крылась простая истина: всякий земной правитель служит в той или иной степени образом Господа, как и любой судья представляет в некоторой мере высшего Судию…
С Римом, конечно, проще – и не только потому, что вечность (aevum) Вечного города совсем иного порядка, чем вечность (aeternitas) Бога. Рим только в одном своем измерении метафизичен (и ангелоподобен[5]), оставаясь вплоть до наших дней умозрительным символом могучей политии европейского типа. В другом же измерении Рим сугубо материален, а потому может быть увиден обычными плотскими очами и худо-бедно описан, притом даже не самым искусным языком. Так, Магистр Григорий в конце XII в. проделал далекий путь (скорее всего, от английских берегов), чтобы вблизи рассмотреть триумфальные арки, капитолийскую (тогда еще латеранскую) волчицу и мальчика, вынимающего занозу. (Кстати, перенести обе статуи на Капитолий распорядится только что упомянутый Сикст IV.) Присматривался Григорий к ним, пожалуй, даже чересчур пристально, а уж нагая Венера из паросского мрамора, хотя и покалеченная, вовсе лишила его душевного равновесия… Почему-то для магистра (а также для «друзей», которым он адресовал свои заметки) Рим оказался интересен не бесценными христианскими реликвиями, а языческими диковинами. Истории и байки, которыми Григорий в изобилии сдабривает свой рассказ – как те, что вызывают его скепсис, так и те, которым он верит, – очень напоминают небылицы, сочинявшиеся и в других знаменитых городах. Прежде всего в Новом Риме – на берегах Босфора[6]… Заодно они показывают нам, как образованные европейцы на рубеже XII и XIII вв. представляли себе античную историю – прямо скажем, иначе, чем принято сегодня…
Если мы согласимся, что Григорий на свой лад любит Античность, то признаем и то, что его любовь к языческому Риму столь же бескорыстна, как и к каменной Венере. Совсем иначе обстоит дело с небольшой группой венских ценителей истории, примерно полутора веками позднее проявивших интерес к классическому прошлому. Их по-своему умелая реконструкция реалий ранней империи времен Октавиана Августа и Нерона отличалась сугубой прагматичностью. Получившийся у них образ языческого Рима не имел ничего общего с языческим Римом Магистра Григория – хотя совсем уж без Венеры не смогли обойтись и они…
Историки давно знают, что искать для Средневековья точное определение понятия «народ» можно бесконечно, но без особого результата. Если немецкие рыцари шли за своим императором в атаку с боевым кличем «Romanum Imperium!», как уверяет нас хронист (хотя если он и прав, то кричали они, скорее всего, все же «Das Römische Reich!» на своих швабских, баварских, верхнерейнских и прочих диалектах), то как представляли они себе собственную идентичность? К какому «народу» они себя относили? Считали ли они себя германцами, римлянами, швабами (баварцами и т. п.), а то, быть может, и всеми сразу? Оказавшись за морем – в Святой земле, – тосковали ли крестоносцы только по родной Бургундии, Шампани, Пикардии или же по «сладкой Франции» в целом? Отбиваясь от наседавших сарацин, считали ли они «своими» одних французов или одних немцев, всех христиан латинского обряда или же любых христиан вообще? А вдруг и верных мусульманских слуг тоже? Или размежевание, если и имело место, то шло по иным линиям, например, разделявшим хорошо сплоченные сообщества: иоанниты – это «наши», а тамплиеры – уже не совсем (или наоборот)… Ближе к восточному краю Европы с определением собственной идентичности было, видимо, ничуть не проще, что и обсуждается в самом конце нашей книги.