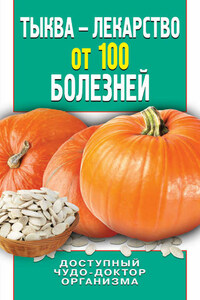1. Октябрь 1980 года. Пансионат для пожилых людей «Пайн Ран», Дойлстаун, США
Стоя аккурат на границе между коридором и комнатой, Энн ждала, пока медсестра не закончит убеждать пациентку и доказывать свою правоту. Пытаясь заглушить охватившую ее тревогу, молодая женщина прислушивалась к каждому шороху: к обрывкам разговоров, раскатам чьих-то голосов, перешептыванию телевизоров, грохоту без конца хлопавших дверей, стуку железных каталок.
Спина протестовала, но она все не решалась снять сумку и поставить ее на пол. Энн шагнула вперед и встала в центр квадрата на линолеуме, обозначавшего порог комнаты. Чтобы немного приободриться, она нащупала в кармане кусочек картона, на котором разборчиво, крупными буквами были перечислены ее твердые, незыблемые аргументы.
Медсестра погладила руку пожилой женщины, испещренную пигментными пятнами, поправила на ней чепчик и подбила подушки.
– Миссис Гёдель, вас слишком редко навещают, чтобы отказываться от этого визита. Примите ее. Доведите до изнеможения, заодно немного разомнетесь!
Уходя, девушка сочувственно улыбнулась Энн. К ней нужно знать подход. Удачи, красавица. Больше она ей помогать не будет. Молодая женщина застыла в нерешительности. Тем не менее к разговору она подготовилась и теперь была готова пылко отстаивать свои самые веские аргументы, тщательно подбирая каждое слово. Но, увидев обращенный на себя неприветливый взгляд, передумала. Нужно сохранять бесстрастность и надежно прятаться за нарядом серой мышки, который она в это утро для себя выбрала: шотландская юбка в бежевых тонах, дополненная подобранным в тон гарнитуром из жакета и джемпера. Теперь она была уверена лишь в одном: миссис Гёдель была не из тех пожилых дам, от которых на пороге смерти остается только имя. Картонную шпаргалку Энн доставать не стала.
– Миссис Гёдель, для меня большая честь встретиться с вами. Меня зовут Энн Рот.
– Рот? Вы еврейка?
Услышав ярко выраженный венский акцент, Энн улыбнулась. Запугать ее пожилой женщине не удалось.
– Для вас это важно?
– Ничуть. Но я предпочитаю знать о корнях моих собеседников. Теперь мне приходится путешествовать лишь «по доверенности», через других людей, поэтому…
Больная попыталась приподняться и скривилась от боли. Энн рванулась вперед, желая ей помочь, но наткнулась на взгляд, от которого пахнуло полярным холодом, и остановилась.
– Стало быть, вас прислали из Института? Вы слишком молоды, чтобы покрываться плесенью в этом пансионате для пожилых ученых. Но давайте ближе к делу! Мы обе знаем, что вас сюда привело.
– Мы хотим сделать вам предложение.
– Вот стадо идиотов! Будто все дело в деньгах!
Энн почувствовала, как в душе поднимается паника. Только не отвечай ей. Несмотря на тошноту, вызванную запахами дезинфицирующих средств и скверного кофе, она осмеливалась дышать лишь через раз. Ей никогда не нравились ни старики, ни больницы. Стараясь не смотреть ей в глаза, пожилая дама теребила прядь волос, невидимых под льняным чепцом. «Уходите, мадемуазель. Здесь вам не место».
Энн скрючилась в фойе на скамейке, обтянутой коричневой искусственной кожей, и протянула руку к коробке шоколадных конфет с ликером, которую сама же там и оставила, когда приехала сюда. Сладости оказались не самой лучшей идеей: есть их мадам Гёдель, скорее всего, не разрешалось. Коробка была пуста. Энн до боли закусила ноготь большого пальца. Она предприняла попытку, но безуспешно. Институту придется подождать, пока вдова не умрет, умоляя всех богов Рейна, чтобы она за это время не уничтожила чего-нибудь ценного. Молодой женщине так хотелось первой составить опись Nachlass[1] Курта Гёделя. Досадуя на собственную нерадивость, она вновь подумала о своих тщетных приготовлениях. В конечном счете ее прогнали одним щелчком пальцев.
Энн порвала картонку на мелкие кусочки и каждый из них положила в отдельную ячейку конфетной коробки. Об упрямстве и грубости вдовы Гёдель ее предупреждали. Урезонить и убедить ее не удавалось никому, ни близким, ни даже директору Института. Почему эта обезумевшая старуха так уперлась в сокровище, представляющее собой наследие всего человечества? За кого она себя принимает? Энн встала. Была ни была, я возвращаюсь.
Перед тем как войти, она едва удосужилась постучать. Мадам Гёдель, казалось, отнюдь не удивилась ее вторжению.
– Вы не жадная и не сумасшедшая. Говоря по правде, вам просто хочется их спровоцировать! Потому что вам больше ничего не остается, кроме как совершать подобные мелкие пакости.
– А они? Что они задумали на этот раз? Натравить на меня бесцветную секретаршу? Приятную девушку, которая оказалась не настолько мила, чтобы пощадить мою восприимчивость пожилого человека?
– Вы ведь прекрасно сознаете все значение этих архивов для грядущих поколений.
– Знаете что? Плевать мне на грядущие поколения! А эти ваши архивы я, пожалуй, сожгу. Больше всего мне до жути хочется использовать некоторые письма моей свекрови в качестве туалетной бумаги.
– У вас нет никакого права уничтожать эти документы!
– Что они себе возомнили в своем ИПИ[2]? Что грубиянка-австриячка не в состоянии оценить значение этих бумаг? Я прожила с мужем пятьдесят лет. И прекрасно осознаю, каким великим он был человеком! Я таскала за ним шлейф и наводила блеск на короне всю свою жизнь! Вы ничем не лучше этих тухлых задниц из Принстона! Тоже небось спрашиваете себя, как подобный гений мог жениться на такой свинье, как я? За ответом обратитесь к грядущим поколениям! У меня вот никто не спрашивает, что такого я в нем нашла!
– Вы сердитесь, но если по правде, то не на Институт.
Вдова Гёделя в упор взглянула на нее выцветшими голубыми глазами с красными прожилками – в тон пестрой рубашке цвета ночи.
– Он умер, миссис Гёдель. И с этим ничего нельзя поделать.
Пожилая дама повертела на пожелтевшем пальце обручальное кольцо.
– На какой полке с диссертациями они вас откопали?
– У меня нет ученых степеней. В ИПИ я работаю в архиве.
– Для ведения записей Курт использовал давно забытую германскую систему стенографии Габельсбергера. Если я вам их дам, вы даже не будете знать, что с ними делать!
– Я владею системой Габельсбергера.
Ее пальцы оставили в покое кольцо и схватились за воротник халата.
– Откуда? На всей земле осталось человека три, которые…
– Meine Großmutter war Deutsche. Sie hat mir die Schrift beigebracht