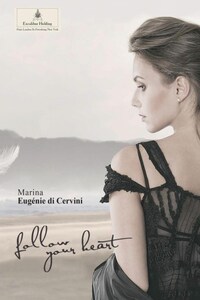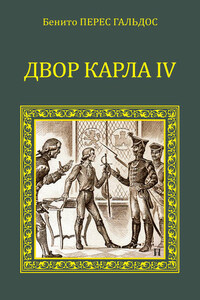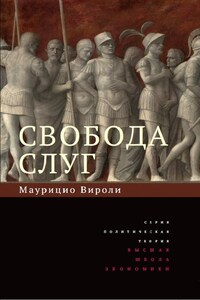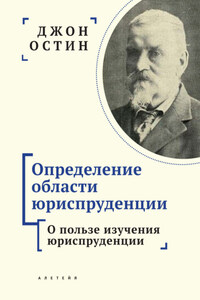В Первой мировой войне сыновья Украины, разделенной между Австро-Венгерской и Российской империями, воевали в двух вражеских армиях.
– За царя! За отечество! Ур-р-р-а-а!!
– Вперед! За цесаря! Слава!
Эти кличи вырывались остервенелым ревом из тысяч разгоряченных глоток, перемешивались с кровью и выхаркивались на снег.
С этими кличами падали – убитые, разорванные, а следующие ряды напирали по ним, бездумно, осатанело, чтобы чуть дальше умереть с теми же кличами в горле:
– За царя! За отечество!
– За цесаря! Слава!
И если бы день длился год, это длилось бы год, и если бы век – люди неустанно убивали бы людей целый век.
Но начало смеркаться и боевые действия постепенно угасали, а когда уж стемнело, угасли дотла – и на поле битвы с вышины осела тишь, и неугасимые ангельские очи с удивлением и жалостью смотрели на это месиво трупов, почти трупов и еще не трупов.
Рядового Василенко с офицером Брусницыным оглушило взрывом снаряда, и они остались вблизи австрийских окопов, когда атака русских захлебнулась и отступила.
Ночью они опамятовались, Брусницын был ранен и сквозь тихий стон прошептал:
– Помоги, браток, помоги, солдатик.
– Зáраз… счас… вашскородь[2]… Рад стараться… – И Василенко принялся перебинтовывать офицера. Вскоре, видимо, боль угомонилась и Брусницын затих.
Только громадьё бездонного неба мириадами очей пристально и молча всматривалось в мир.
– Тиха ніч, свята ніч!.. – вырвалось у Василенко пение колядки.
– Ти зітри сльози з віч!.. – вдруг отозвалось где-то неподалёку.
«Господи! – вдруг вспомнил Василенко. – Сегодня же Сочельник».
А колядка с австрийской стороны, на мгновенье смолкнув, звучала дальше:
– Бо Син Божий йде до нас,
Цілий світ любов’ю спас.
Василенко поднял голову.
Чудо, но из окопа тоже выглянула голова, выглянула напевая: верно, не боялась стать мишенью русской винтовки.
Так они оба допели колядку. Потом тот, с австрийской стороны, завел «Спи, Ісусе, спи».
Допели и ее.
Тогда послышалось:
– Христос ся раждає[3]!
Василенко никогда не слыхал такого приветствия, ответил как знал:
– З Різдвом Христовим будь крепкий!
Тогда они вместе встали и – пошли друг другу навстречу. Посредине остановились, обнялись, поцеловались троекратно и тот, с австрийских окопов, спросил:
– Ну, брате, якої будéмо співали?
– А хоча би оцієї: «В Вифлеємі новина». Знаєш?
– Чом нє!
Они пропели эту, потом «Ангел Божий із небес», еще «Коли ясна звíзда», затем – «Там високо в темнім небі»:
– Там високо в темнім небі
Зірка засіяла,
Плила, плила між горами,
Над вертепом стала.
Мати Сина породила,
В ясла положила,
Чистим сіном притрусила
Господнього Сина…
Василенко услышал, как раздался выстрел, как выкрикнул Брусницын: «Проклятый хохол! Предатель!». Почувствовал, как его обожгло возле сердца, но допел колядку:
– Нехай Божому Дитяті
Честь і слава буде,
Нехай Його прославляють
В цілім світі люде!
Допел – и только тогда обмяк, и побратим, поддержав его, положил на свои колени.
– Гнатышак! Гнатышак! Немедля в окоп! – послышалось на немецком, а потом на украинском.
Но Гнатышак, обняв тело Василенко, всё пел и пел колядки, словно вдвоем, нет – таки вдвоем, и, небось, они вдвоем вот так на небе петь будут: долго, долго, ведь знают же премножество этих колядок, и не перестанут петь, пока не вспомнят последней, а там будет опять Рождество, и они будут петь – без числа, без числа, без счета…
Вечно.
Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот новое;
но это было уже в веках, бывших прежде нас.
Книга Екклесиаста, 1:10
Священника вкинули в камеру первым. Сквозь решетку яснел солнечный день, и немного придя в себя и вытерши кровь с лица, он взялся рассматривать свое временное пристанище. Уж вовсе временное, ведь это камера смертников, отец уже знал.
На всех четырех стенах не было живого места от надписей. «Умираю за правое дело, товарищи». «Будьте прокляты, палачи!» «Помилуй нас, Господи». «Да здравствует Мировая революция!»… Множество этих предсмертных криков выцарапаны, а некоторые, должно, написаны кровью – от пола и выше человеческого роста. А еще выше едва виднелась глубоким шрамом заштукатуренная пятиконечная звезда: верно, кто-то еще до революции отчеканил, а новая власть заштукатурила.
Ближе к вечеру, когда решетка уже не отбрасывала тени, дверь тяжко заскрипела вновь и в камеру толкнули еще двоих. Это были юноши; их, похоже, изрядно молотили, так что не скоро пришли в себя. Отец помог им подняться и усадил на скамью.
Сперва они смотрели – один вверх, другой перед собой – тупыми бесцветными взглядами. После во взгляды стали возвращаться мысли, хаос мыслей.
– Никогда бы не подумал… – с трудом выдавил наконец один. – В страшном сне бы не приснилось…
– Гольдман… Он, видите ли, революционер. А мы – «петлюровское охвостье».
– А как вместе красного петуха под графское имение подложили? А как с Врангелем воевали? А как гетманцев расстреливали? И саботажников? Всё ж были вместе! Что же за сволочь нас оббрехала?
– И почему Гольдман поверил?
– Простите, братья, – вмешался в разговор отец. – Я так понимаю, вашим следователем тоже был Соломон Гольдман? И вы были боевыми товарищами?
Только сейчас юноши заметили, что их сокамерник – душпастырь: и с виду, и по речи. Так что один вяло ответил:
– Поп… О чем нам с тобою балакать? Мы и церковь однажды за дымом пустили…
Второй присмотрелся:
– Это же наш гимназический. Что Закон Божий преподавал. Забыл, как зовут…
– Я вас тоже узнал, но как зовут – забыл. Вы скверно учились. То, что безбожники, – так эта камера нас помирит, в ней нет времени на вражду. Но должен вам кое-что напомнить с истории. Не священной, а просто с истории, вы с ней тоже, помнится, сбегали.
Ребята улыбнулись: видимо, что-то вспомнили с гимназических шалостей.
– О том, что произошло с вами (да и далеко не с одними вами), а со многими другими еще произойдет, есть знаменитое изречение: «Революция пожирает своих детей». Речь не о каннибализме, как вы понимаете. Это воскликнул Жорж Дантóн, основатель революционного трибунала во времена Великой французской, когда по приговору того же трибунала везли на казнь уже его. И в этих словах – вся революция. Любая, и эта наша тоже. Потому что есть законы природы и есть законы общества, пожирание же своих детей – неотвратимый общественный закон.
– Дальше, – заинтересованно придвинулись юноши, сразу какие-то собранные и сосредоточенные.
– Всякая революция начинается с борьбы против общего врага, и это объединяет, какие бы ни были оттенки между революционерами. Затем борьба переходит между своими, ища врагов, потом – между еще более своими, и так далее. Расстрелы, расстрелы, расстрелы… Наконец приходит Наполеон, недавний революционный генерал, восседает на трон (трон же пустой, короля казнили), и изрекает: «Граждане, революция окончилась». Тоненькая прослойка новых приобретает власть. Ну а народ, как всегда, остается в дураках. Так будет и в этот раз. Пусть Троцкого там, или Ленина, или кого там еще и не назовут царем-батюшкой, – не в этом дело. Снова будет монарх и снова – дворянство… Как всегда после революции, так и теперь. Только ваших горячих голов жалко. Ибо до горячих сердец – надо холодных голов. Не нужны вы уже новой власти, вы ей уже опасны.