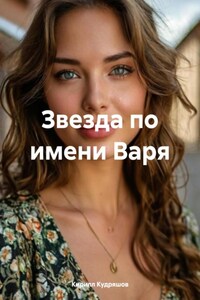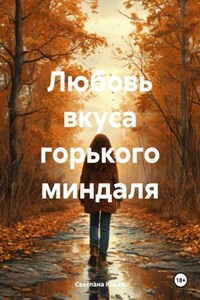В семнадцать лет, я прочитал рассказ Бунина «Митина любовь».
Как и его герой, я в это время был влюблен в прекрасную девушку чуть старше меня, причем любовь была взаимной. Я тогда очень сильно ругал Ивана Бунина за то, что он в конце рассказа застрелил Митю. Мне такая пафосная концовка казалась натянутой и фальшивой. «Любовь и смерть несовместимы! – смеялся я над писателем, ослепленный свое любовью.
Смеялся, пока сам не оказался в том же положении, в какое попал бунинский Митя.
Моя Света была симпатичной хохотушкой, и я был до безумия влюблен в нее.
Мы гуляли вечерами, смотрели на небо, на далекие мигающие звезды, и они казались нам близкими и родными.
Даже вечерний шум большого города с криками, скрипами и грохотом машин нас не раздражал, а радовал.
Все встречные были милы и симпатичны. А руки наши, когда мы шли рядом, сливались в одно целое, как будто был и не я и она, а какое-то единое, слиянное существо.
И говорили, перебивая друг друга. И не могли наговориться. Все, что мы говорили друг другу, казалось таким умным и юморным, что мы смеялись чуть ли не до упаду.
Ну, а когда в полумраке улиц осторожно выбирали и наконец находили неосвещенный подъезд, мы бесшумно ныряли в темноту под лестницу и там целовались до изнеможения.
До чего хорошо было жить! Сердце пело, хотелось делать добрые дела, писать стихи, помогать бабушкам, учить уроки, радовать родителей, а самое главное, все время грело сознание, что я люблю и любим.
Впервые в жизни я встретил человека милее и нужнее своей мамы. Это просто ошеломляло, пьянило без вина.
Так продолжалось полгода.
А весной, в начале апреля, когда солнце стало ласковее, а льдинки тоньше, и гулять рука об руку стало еще приятнее и веселее, моя Света уехала с мамой к родственнице в Москву. По каким-то семейным делам, как я понял.
И тут вот у меня началось.
Мир потемнел.
Весна словно пропала.
Состояние у меня было, как у смертельно больного человека: внутри, в груди что-то жгло и давило, голова не думала ни о чем другом, только о Свете. Слава Богу, у меня была фотография моей любимой Светочки. Раньше она лежала в ящике письменного стола, а теперь перекочевала в карман рубашки – ближе к сердцу.
Но это была еще не боль. Я еще привычно ухмылялся, вспоминая бедного бунинского Митю, но ухмылялся уже, что называется без энтузиазма. Уже думалось порой: а может, в этом рассказе все правда, может, именно так бывает, когда любишь?
Но я гнал от себя эти мысли, и все ждал, когда же приедет Света.
Наконец она приехала.
Снова встречи, снова прогулки, подъезды. Казалось, осталось по-прежнему.
Но появилось и кое-что новое. В минуты наших долгих поцелуев она вдруг стала проявлять инициативы, которых раньше небывало, которые вообще-то должен проявлять кавалер, то есть я.
Мне, конечно было приятно все, что она заставляла меня делать и делала сама, и поэтому за этой новой приятностью в наших отношениях я не обратил никакого внимания на явною связь между поездкой в Москву и ее новыми инициативами в любви. Наоборот, в голове моей клубился туман счастья и благодушия.
Это теперь я понял: если в поведении человека, с которым у тебя долгое время были определенные отношения, друг появляется что-то новое – ищи причину.
Ибо ничто не появляется из ничего и не пропадает бесследно.
Но тогда я был молод и зелен, безумно влюблен, а значит, слеп. И потому никакой связи неожиданной раскрепощенности моей возлюленной с ее поздкой в Москву я не искал. Да в то время я и помыслить не мог, что ее кто-то кроме меня мог чему-то научить в любовных играх. Хотя и сам в то время был слишком молод и абсолютно бестолков в делах любви. Так, поцелуи и вздохи. А Света…
В общем, летом Света опять уехала в Москву на все лето, поступать в МГУ.
При расстовании мы обещали писать друг другу каждый день.
Плакали даже.
И всю ночь провели вместе.
Она уехала, а мне стало плохо.
От нее пришло письмо.
Потом пара открыток.
И еще одна, всего с парой строк.
И – все.
Я же писал ей каждый день.
А когда понял, что ни писем, ни открыток больше не придет, пытался звонить, посылал телеграммы. В ответ – молчание.
Полное молчание.
Мне стало страшно. Стало больно жить. Невыносимо больно.
И тут я вернулся к Бунину. К его рассказу «Митина любовь».
И его строки: «…она – эта боль была так сильна, так нестерпима…», – и вот тогда-то в те дни, в те минуты, эта строка вошла в мою душу, как нож в масло. Моя боль от любви, перемешанная с непонятным поведением любимой девушки, была точно такой же, как у Мити. Казалось, что она, заполняет все тело и даже пространство вокруг него. Я не мог не говорить, не слушать, не дышать, чтобы не думать о ней, о Свете. Чтобы пересилить эту боль, я пытался встречаться с другими девчонками, но все они казались мне какими-то пресными, даже отвратительными. Одна мысль о поцелуях и объятиях с ними приводила меня в состояние, близкое к бешенству. А боль в душе делалась нестерпимой, и на второй месяц моих мук я понял наконец, почему Митя не смог жить: боль, страдания по любимой убивали его вернее острого ножа. Как и у меня, эта боль была неизлечима, нестерпима, ужасна; любая физическая – ничто по сравнению с нею.
Я пытался резать себе пальцы, бился головой о стену, морил себя голодом. Все было напрасно. Ничего не помогало.
И я понял: есть только один способ избавиться от этой боли. Так же, как это сделал Митя.
Да, именно так и только так.
Почему? Потому что тоска по любимой и боль по любви несовместимы с жизнью.
«Прощай, Светик!» – сказал я и шагнул за бунинским Митей туда же, куда ушел и он.