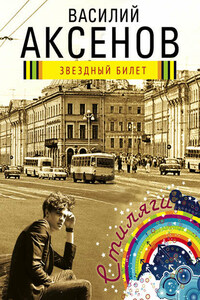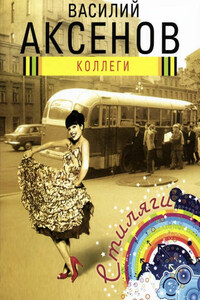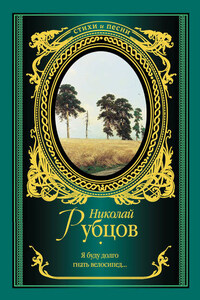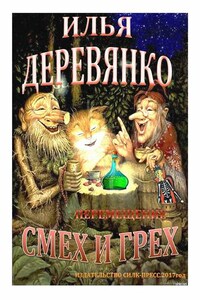Посвящается братьям Яковлевым,
Борису Майофису,
Славе Ульриху,
Сергею Холмскому,
Рустему Кутую,
Эрику Дибаю,
а также Рыжему с того двора.
Ловко или неловко я вошел тогда в ресторан – не знаю. Скорее всего, опять спасовал под взглядами завсегдатаев. Да-да, сейчас я вспоминаю: кажется, было короткое чувство позора. Это был привычный, маленький позор – следствие моей рассеянности. Почти всегда я забываю о правилах игры перед входом в этот ресторан и вхожу всегда не так, как мне подобает туда входить, не то что незаконно, но не в своей роли, и выгляжу нелепо, конечно.
Итак, опять я вошел в ресторан, думая о чем-то нересторанном, и только в середине Дубового зала, попав в переплет взглядов, засмущался, засуетился, желая быстрей где-нибудь приткнуться. Вдруг мне сразу повезло: освободился столик в углу, и я его занял, прикрыв таким образом правую часть своего тела.
Правая часть тела сразу погрузилась в бесконтрольное блаженство, а левая напряглась, уже вступая в игру, изображая небрежность, томность, усталость, иронию. Мне здесь полагалось выглядеть вот каким: лицо у меня должно быть изнуренное, а движения вялые, но значительные. Если я буду таким, кто-нибудь сочувственно спросит: «Что, старик, перебрал вчера?» – и на этом все успокоятся: дело ясное и понятное каждому – перебрал вчера старичок. Если же я буду каким-нибудь иным, тогда обязательно спросят: чего такой мрачный? Вопрос этот неизбежен, если я буду каким-то другим, и неизбежна следующая прямо за этим вопросом короткая вспышка бешенства, впрочем ничем не проявляемая внешне. Две минуты я посидел один, а потом подошел Юра Позументщиков.
– Чего такой мрачный? – спросил он, упираясь кулаками своими в мой столик.
Ярость тут же захлестнула меня, я моментально ее поборол, но сказал все-таки гадость.
– Что-то ты опять поправился, – сказал я Юре.
Он растерялся.
– Только что мне говорили, похудел, – пробормотал он.
– Поправился, поправился, – сказал я. – Просто не знаю, куда это тебя так прет.
– А сам-то, – дрожащим голосом сказал Позументщиков. – Сам-то – поперек шире. Квадрат несчастный.
С деланым добродушием мы оба посмеялись, и он отошел.
Еще плотнее втершись в угол, выставив оттуда лишь безучастную ногу в крепком тупорылом ботинке, я в тысячный раз обводил взглядом высокие дубовые панели ресторана, скрипучую лестницу на антресоли, подпертую витым столбом, антресоли с кабинетами и отдельный балкончик, с которого мне давно уже хотелось спрыгнуть.
Всегда полутемный, заполненный, точно газом, мутно-розовым светом, ресторан этот иной раз вызывал у меня невероятную апатию. Сейчас я будто лежал на дне, на боку, как подводная лодка, у которой сели аккумуляторы.
Все это вовсе не значит, что я какой-нибудь гуляка, не вылезающий из ресторана. Просто я здесь слишком часто бываю. Здесь я часто обедаю, меня здесь знают и обслуживают весело и споро, и я обедаю деловито, быстро, а иной раз с товарищами, с тем же Позументщиковым, весело и быстро рассказываем разные новости. Но иной вот раз ведь бывает же так: войдешь в знакомое место, в знакомое общество, а место тебе вдруг покажется странным чертогом, а общество – скоплением чудищ оловянно– и медноглазых.
Давно уже шла вялая и мокрая зима, и мы, должно быть, все уже устали от нее.
Вдруг, непонятно почему, словно музыка заиграла, словно музыка моего уже очень далекого детства, и показалось, что сейчас с сумасшедшими весенними глазами в это капище влетит Рыжий с того двора.
Мы жили во время войны в Казани, на улице Карла Маркса, бывшей Большой Грузинской, напротив туберкулезного диспансера, бывшего губернаторского дворца, в большом деревянном доме, бывшем особняке инженера-промышленника Жеребцова.
Наш двор, в котором еще сохранились жеребцовские липы, с одной стороны был обнесен забором, а с другой замыкался сараями-дровяниками.
Каждую военную весну липы, как ни странно, цвели, да так, что под их сенью можно было забыть о голодухе, об измученных взрослых родственниках, о тяжкой зиме.
Рыжий с того двора долгими часами сидел на какой-нибудь из этих лип, на суку, на большой высоте, воображая себя марсовым матросом с фрегата Дюмон-Дюрвиля.
Что касается меня, то я предпочитал крышу. С террасы господина Жеребцова, где подгнивший настил угрожающе прогибался под ногами, по резному столбу я взбирался на крышу и сидел там на коньке, воображая себя матросом Кука.
С крыши были отлично видны все многочисленные замысловатые флюгеры туберкулезного диспансера, квадратные лоджии Дома специалистов, гранитные колонны Химикотехнологического института, яркое пятно крошечного садика культурной старухи Евгении Олимпиевны на том дворе. Тот двор, откуда родом был Рыжий, напоминал запутанный, не до конца еще изученный архипелаг. С нашим двором он соединялся узким проходом между люфт-клозетом и мусорными ящиками. Там было несколько деревянных домов, два двухэтажных каменных дома, а в глубине высился добротный высокий дом: широкие окна в узорных рамах, медные решетки на балконах, многочисленные слуховые окна, мансарды, флюгера.
Проливы, заливы, тайные щели, сырые подвалы – вот что такое тот двор, откуда родом Рыжий.
Рыжий висел метрах в двадцати от меня, чуть повыше, в зелени лип.
– Эй, на баке! – иногда кричал он мне. – Эй, Пат! Читал «Мятеж на Эльсиноре»?
Единственным мальчиком, с которым у Рыжего были более или менее человеческие отношения, был я: мы обменивались книгами Джека Лондона. Остальные Рыжего терпеть не могли – он их терроризировал. К концу дня он спускался со своей липы и устраивал в обоих дворах бесовские игрища, носился, как рыжий бешеный кот, а может быть, даже как рысь. При игре в «штандарт» мяч забрасывался на крышу; в «чику» – похищались монеты и забойный пятак; в «тринадцать палочек» – переламывалась доска; раскрученная за хвост, летела в девочек дохлая кошка. Одичавшие от долгого скитания в Полинезии матросы Дюмон-Дюрвиля…
– Катастрофическое падение какого бы то ни было интереса к искусству… Вы меня понимаете?
– Э?
– Вот посмотрите, идет негодяй.
– Кто?
– Вот этот, вы же знаете. (Негодяю – сухо: – Здравствуйте!) Милый мой, что же говорить – чудище обло, озорно, стозевно и… как там?
– Лаяй…
– Вот именно. Культура мышления, эмоциональная сфера… боржома?.. В Европе – унификация… будьте здоровы. Европа обожралась, извините за грубость, но это так, вы согласны?
– Да-да, вообще, знаете ли…
– А вот пошел достойный человек. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Как дома? Привет вашим! Вы его знаете?
– Передайте огурчик…
– Конечно, он мастер, он краснодеревщик, а мне по душе плотницкая работа. Знаете, уже надоело, каждый ходит со своим стульчиком в стиле «бибабо». Согласны?