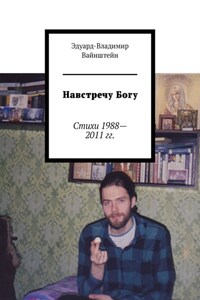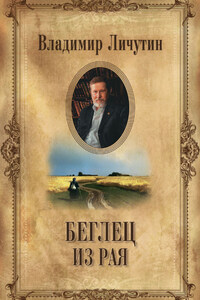Посвящается Петру Апалькову (1923—1982)
«…Лешiе имеютъ видъ большихъ стариковъ;
они запахиваются всегда левой стороной одежды;
они живутъ въ болотахъ.
У лешихъ есть старшiй лесовой царь,
онъ живетъ въ больщомъ лесу,
въ которомъ весьма редко бываютъ люди…»
Во сыру землю
Посреди неспокойных полей
Там, где Вечность стоит у порога
С елей капает в руки елей
И хранит о всех память дорога
Там трава-зверобой, там в ночи облака
Освещаются медленным светом
И выглядывает из-за них кровь-река
Воевавших на том и на этом
Тонко бусы звенят у прозрачных огней
Убегают вдаль юные хлопцы
Унося с собой вкус и земли и корней
И иконок чернённые створцы
Раскрывается небо, и всем хорошо
Словно не было в жизни иначе
Собирай своё счастье в широкий мешок —
Не найдёшь человека богаче
Здесь полям счёта нет, а в лесах глубина
Словно в центре реки-океана
Пробираясь вперёд, нас встречает луна
И на сердце рождается рана
Та что вместе родилась с тобой и всегда
Кровоточит, как зов старшей крови
И когда с человеком бывает беда
Его деды встают рядом вровень
Не найти здесь покой, так как всё из него
Вытекает как кровь из крыницы
Только вечные зори, не пойму отчего
Плачут слёзами сбитой куницы
Скифы
Шелестели листья после боя
Шелестели бедные во тьме
Словно волосы на голове героя
Словно кость на вражеском ярме
Ненависть пылая заливала
Улицы орловских деревень
Мать словами ведьмы проклинала
Тех, кто отнял у неё детей
Но война не знала окороту
От крови жирнея чернозём
Прилипал и вызывая рвоту
Тоже говорил нам о своём
Зеленея зеленеть не ново
Ты попробуй зеленеть тогда
Когда даже росы цвета крова
Когда цвета красного вода
Шелестели листья после боя
Падая на землю краснотой
Шелестели листья, словно споря
Кто из них умрёт сейчас со мной
Саван ночи
Ходили в ночь, чуть дальше ночи,
Сокрыв ладони в саван лип
И крестиков льдяные очи
Смотрели на сынов своих
Кому-то отдавая силу,
Пел в чистом поле волколак
А может ветер? Нет, бузину
Скрывает непривычный мрак
Поёжившись идём мы дальше
Ночные вопли в бурелом
Нам говорят о том, что раньше
Здесь был проклятый водоём
И молодые закрестились,
А старые угрюмо в нос
Шептали «Вот мы и напились»
И стало страшно уж всерьёз
Но… ключевым моментом ночи
Во тьме промчался горностай
И где-то рядом, очень-очень
Мерцали клювы птичьих стай
Я засмеялся громко, зычно
Нечистых приглашая в бой
И стало резко всё обычно
Как-будто обделён судьбой
Бывает страшно, жутко, грустно
В дороге средь полей родных
И видишь – свято место пусто
Среди немёртвых и живых
Но разольётся вдаль обширно
Реки глубокой гребешок
И вот уж умереть не стыдно
До ней всегда один шажок
Журавли
Лай собачий на ветру крошился
На осколки памяти людской.
Где родился – там и пригодился.
Умер там же. Что теперь с тобой?
Были дни сверкающе свободны,
Были травы ярче и цвета…
Много было в памяти народной,
Много было… Уж не те лета.
Ухмыльнёшься ты – мы оба что-то знаем,
Что-то видели, о чём не рассказать.
Что-то, о чём тайно вспоминаем,
Что-то, что-то… Нужно ль вспоминать?
Выкинуть из памяти былое,
Расправляя крылья по-ветру.
Лишь собаки теребят гнилое,
Но не трогают ушедшую весну.
Ковыляет солнце так же вечно,
Облака ступают важно, неспеша.
Горе, радость – всё, что быстротечно,
Не вмещает мёртвого душа.
Вечная улыбка на портрете,
Вечный взгляд в сокровища небес…
Всё, на что нам хочется ответить
По ночам тихонько шепчет лес.
«…По рассказам шимозерских жителей, возвращение членов семьи с жатвы сопровождалось обрядовым действием: они вешали на шею хозяйки серп со словами: „Или пироги делай, или голову отрубим“. Как выяснилось, подобные действия, сопровождаемые аналогичными словесными формулами, были известны и южным карелам. Так, в деревнях Суоярвского р-на пришедший с поля жнец клал хозяйке на спину серп и спрашивал ее: „Пироги дашь или шею отрезать?“ или „Хозяйка, ты от шеи отказываешься или пироги делаешь?“ Слова могли быть и такими: „Если не дадут пирогов, то шею долой!“ или: „Эй, хозяйка, видишь серп, давай угощения, не то голову долой“…»
(И. Ю. Винокурова, Календарные обычаи, обряды и праздники вепсов, Наука, 1994, с.100)
Чумацкий шлях
Утомился костёр вдалеке освещать
Этой ночи слепой темноту
Стало холодно вдруг, и остались сиять
Только звёзды в колючем ветру
Им шептаться всю ночь, леденя и горя
Обжигая своей высотой
Всех случайных прохожих, а конкретно меня
Наполняя тягучей тоской
Им мерцать, разливаясь молочным путём
Сквозь века, и часы, и минуты
Оставляя ушедших счастливей в своём
Чувстве праведности и смуты
Гроб на гроб, кость на кость – отрицание всей
Философии духа и тела
Что горит, но не греет, как звёздных ночей
Покрывало из слёз и из мела
Сотни тысяч секунд пролетят, словно сон
Приближая к моменту распада
Все печали и радости – только лишь фон
Твоего лично Райского сада
Когда умирает смерть
Заметали февральские вьюги,
Сквозь забытые всеми поля
Хлопья цепкие, хлопья как руки
Снега чёрного, словно земля.
Он в тени замолчавшей луны
Был изжёванным колким железом,
Обжигающ, как чувство вины,
И остёр, как и лёд своим срезом.
В этот лютень в лесу горевал,
Проклиная снега своим воем
Старый волк, что совсем не вставал,
Но смотрел на снежинки героем.
В его умных глазах только гнев,
Растекался, как кровь над ведром.
И, казалось, что плавился снег,
И, казалось, что жарко кругом.
Мать-волчица уже не бежала,
В её тяжких шагах была смерть,
Она набок в лесочке упала,
Дыбом встала белёсая шерсть.
В её сути, внутри пуповины,
Были спрятаны восемь волчат,
(Может семь, может шесть с половиной,
Кто теперь разберёт – все молчат)
И глаза закрывались у волка,
Стало хуже волчицы чутьё.
Стало тише, всё медленно смолкло,
Смерть открыла забрало своё.
И неспешно так подходила,
Наслаждаясь владеньем своим.
И любовно животных накрыла,
Как покровом своим Серафим.
Но раздался вдруг вопль, и только,
Как прорезался низ живота —
Два горячих, дымящихся волка,
Два волчонка размером с кота
Оказались в заснеженном поле.
И луна захотела взглянуть,
Призывая открыть глаза воле,
Призывая победно зевнуть.
Отгрызая себе пуповину,
Открывая глаза и скуля,
Два волчонка, как два пилигрима
Изучали владенья своя.
Пошатнулась смерть и упала,
Вверх вздымая сияющий снег.