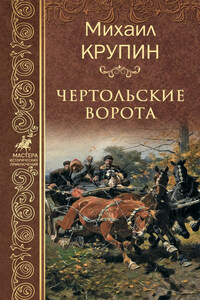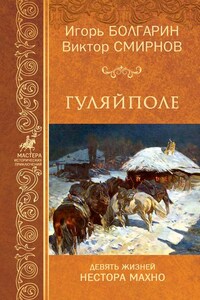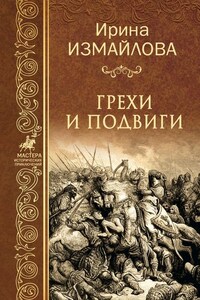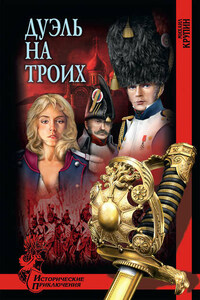Пал первый снег, и состоялась царская охота…
В первом по старому счислению часу, в синем предчувствии света, вышел косматый тихий поезд – из Москвы в Царево займище.
Покачивались в такт оглобель легко очерченные снежком, как попало вываленные из саней края медвежьих полостей. Хоть княжески, царски холеные и принаряженные, меринки все бежали понуро.
От задов столицы, остающейся за полукруглыми, загнутыми на поле полусвета спинками, еще долетали лениво напутствия всех проснувшихся сегодня простуженными, чуть живыми, петухов и кленовых, целыми заиндевелых, журавлей. За ними таял перезвон окраинных посадских колоколен…
Впереди светало: от тонко зеленеющей далече волны – из мрака все приходило в неустойчивость…
Между боярских возков, придерживая шеи горячащихся по первозимью аргамаков, сновали веселые польские капитаны и стольники-охотники, с ними был и царь. Бо́льшие же вельможи нарочно, державственным весом своим, вжимали санки в звучный снег и, осаживая каблуками возчиков, гордо задерживали все движение.
– Это молодым царькам нужны потехи, а старшему глубококровному сословию уже только почтение… Да грешная истома властострастия, вот и весь зуд, и весь покой…
Несмотря на рань, было не очень холодно: тулова князей обогревали шубы, щеки грел мороз.
Подымающийся свет утверждал и усиливал тьмой черты возков и путников. Кусты на медленно передающем свой свет небу снегу виделись зловещими провалами куда-то, а полевые рытвины и придорожные широкие ухабы – слабыми тенями от запорошенных стоеросовых трав. Мягкий рассвет пока не различал ни цвета платий, ни масти коней, – и всадники, на чуть отдаленный взгляд, летали разрозненно-тесными и бесславно-одинаковыми. И только в открытых розвальнях бояре переливались уже дорогой цепью.
Это сквозь иней просияли радужные лисы и соболя, крашеные под малариуз бобры, лазурные песцы, в бечетах на стрелочках охвостий горностаи… Даже в лютые морозы вышагивали в сих пушащихся убранствах думные – не ежась, в свободной теплыни, ровно где-то в Греках или Иерусалиме – при самой колыбели человеческого православия. Не сжимаясь, как южане, разворачивались чувствованиями миров, страстьми подлунными…
Нежно покусывали голые персты искорки особой усии, и боярин понимал, что мех его скрыто снабжен высокой благородной силой, как ногайчатым огнем – тучи густых небес. И пуще гордился боярин своим дивным сбором, и словно весь любовно уходил в бестрепетные чистые объятия тяжелой женщины – таежной лешачихи… Глуше, глубже думный кутался в удельно-холмистый, темно-скоромный покров.
Меховой важный человек чувствовал, почти до ощутимости мысленной, что не только честь и власть пускают человека в мех, но и сама теплица меха исподволь выпестывает, в даже невнимательной к своей одеже душе, ростки глубокого достоинства и самоволия таинственной тысячелапой мощи…
На Займище все было давно готово к ловитве: с лета выбрана земля из старых берлог и запечатано в них на зиму несколько молодых медведей. Над березняком всходили дымы ладных охотницких теремков, рубленных еще при Федоре Ивановиче, окаймленных многими клетями, ледниками и конюшней. На такое обжитое, от всех лесных страхов и неудобств хранимое местечко, на забаву, по цареву приглашению езживали даже бессильные старцы – с супружницами и внучатами.
В этот раз с царским охотным поездом везли и бедную царевну Годунову. Присутствие дочери умершего царя было окружено завесой тщательного умолчания – видно, о ней в поезде знали уже все. Тем паче, что Ксюша сидела, против всякого обыкновения, не в глухо-слепом, тисненном красиво каптане, а просто – в глубоких санях. Царевна сама отстояла сию привилегию: неволя девы рода Годуновых и при Григории осталась для нее неволей, но если дщерь любимого отца и помыслить не могла об ослушании, то пленница влюбленного разбойника все же имела право на каприз. А от суда людского нигде ведь оберега нет – закроешься в каптане, скажут: «вот, давно уж ни трона, ни жердочки за душой, а все велика боярыня – в какой каптан залезла, все туда же, хвост трубой!»; сядешь и на дровни, не похвалят: «не успела родню схоронить – ишь, на приволье вырвалась, страмница озорная!»
В рассветном рассеянии, затиснутая между новой стольницей Урусовой и недремлющей оглохшей старухой Волконской, Ксения глядела на блеклый, снующий, изменяющийся мир во все глаза.
На цуге бахматов сзади разогнался старший Шуйский и, зацепившись слегой за дугу царевниной упряжки, чуть не свалил ее и не опрокинулся сам. Бешено засигав из рукава шубеи плетью, Шуйский согнал «раззяву»-возчика Ксении прочь и сам напросился – как раньше на высочайшую честь – на облучок царевны, дабы с превеликим бережением доставить всю красу на поприще забав.
Князь Василий начал езду, как заправский говорун-ямщик, – с долгого своего повествования, не с вопросов седокам. (Или так еще делает человек, когда ему у собеседника выведать надо немного, но обязательно.)
Обсказывая, что у брата Митрия супруга на сносях, что дальнородный их племянник Миша Скопин неспроста вхож в семью царского печатника Головина, да все никак вот не посватается к его дочке, и прочее, князь вез как попало возок, почти отпустив на свою волю коней, – развернувшийся вполоборота на козлах, следил за ответами уст и глаз у Годуновой.
Ничего не разбирая из того, что ему надо было, в утверждающемся свете Шуйский сам начал, кстати и понемногу, спрашивать – все прямее, все сердечнее…
«Вспомяни, Аксиньюшка, – сказал он наконец тихо, чтобы не смотрела глухая Волконская, – ведь я – давнишный друг всего вашего рода (твердь ему небесная теперь!), так поручи мне, старику, свою печаль-тоску… Ужо замолвит Дума за судьбинушку твою царю словцо… Али чем инако послужу?..»
Но царевну, знающую и уже обжившую свое совершенное безродство, только удивила опасливая родственность князя. Чуть не ежедневно Ксении приходилось отклонять воз мелких докучных услуг, предложений мошенника-монарха и Мосальских – радушных хозяев ее жилья… О решительной же перемене участи она уже мало мечтала. И каким калачиком не оборачивался с облучка к ней князь Василий, только помаргивала ему – так же вежливо и настороженно…
У Волконской вдруг настежь расхлопнулись веки, старуха, метнувшись вперед, вырвала у полуповернутого к Ксюше Шуйского поводья и снова вся завалилась назад, тяня за собой лошадиные шеи и трепеща – «тпр-р-р-у!» – до отчаяния мягкими губами.
Впереди, уже упершись сапогом в санное дышло, в плотном облаке дыхания остановившейся упряжки, сидел на коне поперек дороги царь. Кажется, улыбаясь, он спрашивал: