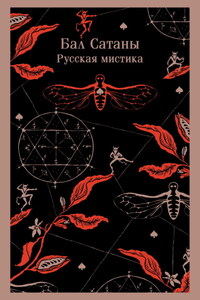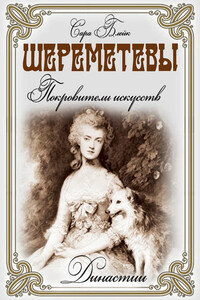Поутру 11 июля 1856 года прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции Московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге. Накануне, в девятом часу вечера, приехал господин с чемоданом, занял нумер, отдал для прописки свой паспорт, спросил себе чаю и котлетку, сказал, чтоб его не тревожили вечером, потому что он устал и хочет спать, но чтобы завтра непременно разбудили в восемь часов, потому что у него есть спешные дела, запер дверь нумера и, пошумев ножом и вилкою, пошумев чайным прибором, скоро притих, – видно, заснул. Пришло утро; в восемь часов слуга постучался к вчерашнему приезжему – приезжий не подает голоса; слуга постучался сильнее, очень сильно – приезжий все не откликается. Видно, крепко устал. Слуга подождал четверть часа, опять стал будить, опять не добудился. Стал советоваться с другими слугами, с буфетчиком. «Уж не случилось ли с ним чего?» – «Надо выломать двери». – «Нет, так не годится: дверь ломать надо с полициею». Решили попытаться будить еще раз, посильнее; если и тут не проснется, послать за полициею. Сделали последнюю пробу; не добудились; послали за полициею и теперь ждут, что увидят с нею.
Часам к десяти утра пришел полицейский чиновник, постучался сам, велел слугам постучаться, – успех тот же, как и прежде. «Нечего делать, ломай дверь, ребята».
Дверь выломали. Комната пуста. «Загляните-ка под кровать» – и под кроватью нет проезжего. Полицейский чиновник подошел к столу, – на столе лежал лист бумаги, а на нем крупными буквами было написано:
«Ухожу в 11 часов вечера и не возвращусь. Меня услышат на Литейном мосту, между 2 и 3 часами ночи. Подозрений ни на кого не иметь».
– Так вот оно, штука-то теперь и понятна, а то никак не могли сообразить, – сказал полицейский чиновник.
– Что же такое, Иван Афанасьевич? – спросил буфетчик.
– Давайте чаю, расскажу.
Рассказ полицейского чиновника долго служил предметом одушевленных пересказов и рассуждений в гостинице. История была вот какого рода.
В половине третьего часа ночи, – а ночь была облачная, темная, – на середине Литейного моста сверкнул огонь, и послышался пистолетный выстрел. Бросились на выстрел караульные служители, сбежались малочисленные прохожие, – никого и ничего не было на том месте, где раздался выстрел. Значит, не застрелил, а застрелился. Нашлись охотники нырять, притащили через несколько времени багры, притащили даже какую-то рыбацкую сеть, ныряли, нащупывали, ловили, поймали полсотни больших щеп, но тела не нашли и не поймали. Да и как найти? – ночь темная. Оно в эти два часа уж на взморье, – поди, ищи там. Поэтому возникли прогрессисты, отвергнувшие прежнее предположение: «А может быть, и не было никакого тела? может быть, пьяный или просто озорник, подурачился, – выстрелил, да и убежал, – а то, пожалуй, тут же стоит в хлопочущей толпе да подсмеивается над тревогою, какую наделал».
Но большинство, как всегда, когда рассуждает благоразумно, оказалось консервативно и защищало старое: «Какое подурачился – пустил себе пулю в лоб, да и все тут». Прогрессисты были побеждены. Но победившая партия, как всегда, разделилась тотчас после победы. Застрелился, так; но отчего? «Пьяный», – было мнение одних консерваторов; «промотался», – утверждали другие консерваторы. «Просто дурак», – сказал кто-то. На этом «просто дурак» сошлись все, даже и те, которые отвергали, что он застрелился. Действительно, пьяный ли, промотавшийся ли застрелился, или озорник, вовсе не застрелился, а только выкинул штуку, – все равно, глупая, дурацкая штука.
На этом остановилось дело на мосту ночью. Поутру, в гостинице у Московской железной дороги, обнаружилось, что дурак не подурачился, а застрелился. Но остался в результате истории элемент, с которым были согласны и побежденные, именно, что если и не пошалил, а застрелился, то все-таки дурак. Этот удовлетворительный для всех результат особенно прочен был именно потому, что восторжествовали консерваторы: в самом деле, если бы только пошалил выстрелом на мосту, то ведь, в сущности, было бы еще сомнительно, дурак ли, или только озорник. Но застрелился на мосту – кто же стреляется на мосту? как же это на мосту? зачем на мосту? глупо на мосту! – и потому, несомненно, дурак.
Опять явилось у некоторых сомнение: застрелился на мосту; на мосту не стреляются, – следовательно, не застрелился. Но к вечеру прислуга гостиницы была позвана в часть смотреть вытащенную из воды простреленную фуражку, – все признали, что фуражка та самая, которая была на проезжем. Итак, несомненно застрелился, и дух отрицания и прогресса побежден окончательно.
Все были согласны, что «дурак», – и вдруг все заговорили: на мосту – ловкая штука! Это чтобы, значит, не мучиться долго, коли не удастся хорошо выстрелить, – умно рассудил! от всякой раны свалится в воду и захлебнется, прежде чем опомнится, – да, на мосту… умно!
Теперь уж ровно ничего нельзя было разобрать, – и дурак, и умно.
II. Первое следствие дурацкого дела
В то же самое утро, часу в двенадцатом, молодая дама сидела в одной из трех комнат маленькой дачи на Каменном острову, шила и вполголоса напевала французскую песенку, бойкую, смелую.
«Мы бедные, – говорила песенка, – но мы рабочие люди, у нас здоровые руки. Мы темны, но мы не глупы и хотим света. Будем учиться – знание освободит нас; будем трудиться – труд обогатит нас, – это дело пойдет, – поживем, доживем —
Мы грубы, но от нашей грубости терпим мы же сами. Мы исполнены предрассудков, но ведь мы же сами страдаем от них, это чувствуется нами. Будем искать счастья, и найдем гуманность, и станем добры, – это дело пойдет, – поживем, доживем.
Труд без знания бесплоден, наше счастье невозможно без счастья других. Просветимся – и обогатимся; будем счастливы – и будем братья и сестры, – это дело пойдет, – поживем, доживем.
Будем учиться и трудиться, будем петь и любить, будет рай на земле. Будем же веселы жизнью, – это дело пойдет, оно скоро придет, все дождемся его, —
Done, vivons,
Qa bien vite ira,
Qa viendra,
Nous tous le verrons!»
[2]Смелая, бойкая была песенка, и ее мелодия была веселая, – было в ней две-три грустные ноты, но они покрывались общим светлым характером мотива, исчезали в рефрене, исчезали во всем заключительном куплете, – по крайней мере должны были покрываться, исчезать, – исчезли бы, если бы дама была в другом расположении духа; но теперь у ней эти немногие грустные ноты звучали слышнее других, она как будто встрепенется, заметив это, понизит на них голос и сильнее начнет петь веселые звуки, их сменяющие, но вот она опять унесется мыслями от песни к своей думе, и опять грустные звуки берут верх. Видно, что молодая дама не любит поддаваться грусти; только видно, что грусть не хочет отстать от нее, как ни отталкивает она ее от себя. Но грустна ли веселая песня, становится ли опять весела, как ей следует быть, дама шьет очень усердно. Она хорошая швея.