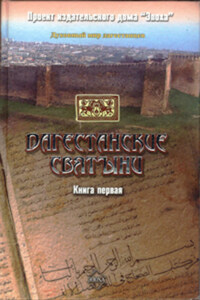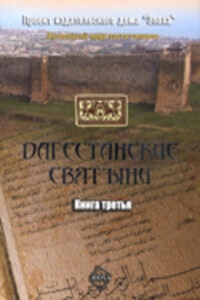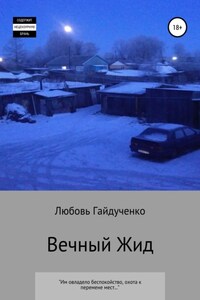Дагестан. Феномен социально-экономического и этнополитического устройства и культурно-исторического развития
А.Р. Шихсаидов
Дагестан – это сочетание двух слов: тюркского «даг» (гора) и персидского «стан» (место, страна). Страна гор. Вот уже почти шестьсот лет, как это название присвоила себе небольшая часть земли на Восточном Кавказе, на западном берегу Каспийского моря. Мы сталкиваемся здесь с фантастическим перепадом высот, сменой географических зон – от Каспийского моря и Приморской равнины, что на 28 м ниже уровня океана, до лежащих под вечным снегом горных вершин, достигающих 4000 м высоты. Если ко всему этому добавить, что на территории Дагестана на каких-то 50 тыс. кв. км проживает три десятка народностей, относящихся, согласно лингвистической классификации, к трем языковым семьям – кавказской, тюркской, индоевропейской, то мы можем представить себе в общих чертах этнический облик и культурно-историческое своеобразие этого региона.
Эта этническая дробность, этническая дифференциация дагестанского общества были предметом внимания не одного поколения исследователей, выдвигавших различные версии происхождения многоязычия, среди которых важное место занимала теория решающего значения географического фактора. Иными словами, изоляция обществ, разделенных горами и труднопроходимыми перевалами, определила этнический облик региона, в данном случае Дагестана. Сторонников подобной постановки вопроса не смущало то обстоятельство, что многие горные районы Кавказа, изрезанные горами, не дали языкового разнообразия. Не объясняли этническую дробность и эндогамные формы брака, исторически характерные для Дагестана. Была выдвинута и миграционная теория, объяснявшая этнолингвистическую пестроту дагестанского общества как «вклад постепенного ветвями на Кавказ народов древнейшего культурного мира на юге» (Н. Я. Марр), иными словами – речь идет о многочисленных народах, носителях древнейшей цивилизации, передвинувшихся в древности в Дагестан из зоны междуречья Тигра и Евфрата.
Впервые в дагестанской, точнее, кавказской историографии оптимальное решение вопроса о сущности и причинах многоязычия в Дагестане, отличное от вышеназванных, предложил известный ученый М.А. Агларов. Изучив древние формы общественно-политических структур, устойчиво сохранившиеся вплоть до середины ХIХ в. (община – джамаат, самодовлеющая структурная единица: объединение нескольких джамаатов, «связанных между собой и политическим самоуправлением» и получивших в литературе название вольное общество или республика; союз, федерация вольных обществ), одновременно – этнолингвистическую ситуацию в них, он убедительно представил мнение о том, что «этническая ситуация в Дагестане является порождением уникальной многочастной раздробленной политической системы», что именно длительная политическая раздробленность привела к этническому многообразию.
Античные и арабские раннесредневековые авторы «уловили» это многообразие Восточного Кавказа, хотя не делают попыток выявить и генетические (вернее, социогенетические) аспекты. Они пишут о нескольких десятках языков (от 26 до 70) в этом регионе.
В XVIII в. децентрализация политической власти, наличие большого числа независимых владений и обществ были уже феноменом, «за спиной которого» было минимум от пятисот до двух тысячелетий истории. В «Истории Дагестана» об этом времени, т. е. о XVIII в., написано: «Дагестан по-прежнему был раздроблен на мелкие и мельчайшие политические единицы: Эндиреевское, Аксаевское и Костековское владения, Тарковское шамхальство, Кайтагское уцмийство, Табасаранское майсумство, владения кадия Табасарана, Мехтулинское, Аварское, Казикумухское ханства и более 60 мелких объединений, союзов сельских обществ, известных под названием аварских, даргинских и лезгинских «вольных обществ». Это общеизвестное положение было удачно интерпретировано М.А. Агларовым, чтобы утвердить, что именно длительная политическая раздробленность лежала в основе полиэтнической структуры дагестанского общества.
Изучение раннесредневековой истории Дагестана показало, что в V – Х вв. его территория была разделена на большое число раннефеодальных владений, формировавшихся по многоэтническому принципу. Речь идет о таких владениях, как Лакз, Гумик, Табасаран, Хайдак, Филан, Зирихгеран, Сарир и другие. Впоследствии некоторые вообще потеряли свою самостоятельность, влились в состав более сильных государств (Филан, Зирихгеран). Ряд государственных единиц (Дербент, Кумухское шамхальство, Кайтагское уцмийство) усилились, включив в свой состав владения с иным этническим составом.
В Х – нач. XIII вв. изменилась и политическая карта Дагестана. Ряд государств или феодальных владений усилился, упрочив свои позиции за счёт других владений, приняв полиэтнический облик. Некоторые же владения, потеряв свою самостоятельность, вошли в состав сильного владения или же распались на более мелкие единицы, союзы сельских обществ.
В середине Х в. прекратил свое существование Хазарский каганат, крупнейшее государство на территории Северо-Восточного Кавказа, Подонья и Нижнего Поволжья, существовавшее более трехсот лет. К ХI в. потерял свою самостоятельность ряд мелких политических образований, таких как Шандан, Филан, Карах. Распались на отдельные, независимые территориальные единицы (скорее всего, союзы сельских обществ) Лакз и Табасаран. Вместе с тем усиливаются Дербент, Гумик (с XI в.), Кайтаг, Серир (в X–XI вв., а в XII в. он также распадается на отдельные части).
Таким образом, явно вырисовывается процесс неравномерного политического развития: централизация политической власти в одних владениях сопровождается политической раздробленностью в других. Однако в этом двуедином процессе главным в X – начале XIII вв. выступает фактор децентрализации, приведший к усилению ранее существовавших или возникновению новых союзов сельских обществ.
XIII–XV вв. внесли много нового в политическую карту Дагестана. Внешние факторы сыграли решающую роль (на равнине и в предгорье) в сфере политических, экономических, земельных, этносоциальных отношений. Два разрушительных похода монгольских войск на территорию Дагестана, столкновение на этой же территории интересов двух монгольских государств – Золотой орды (Джучиды) и Хулагуидов, вылившее в длительное военное противостояние, походы Тимура в конце XIV в. – последней четверти XV в. – все эти факторы нарушили естественный ход развития событий, активизировали перераспределение форм земельной собственности, разрушили баланс земледельческих и скотоводческих традиций, обеспечили окончательную культурную победу тюркского этнического прессинга, начавшегося в IV – Х вв. Самое главное – события XIII–XV вв. разрушили сложившееся в Х – XIII вв. экономическое единство Дагестана, единство гор и равнин (об этом ниже).