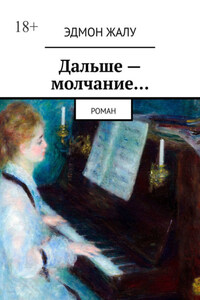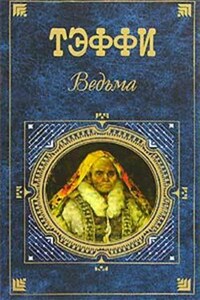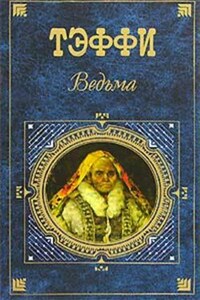Я хорошо помню, что это было воскресенье. Этот день я не очень любил; меня долго и тщательно причесывали, одевали элегантнее, чем обычно, и при этом слегка подгоняли и изрядно бранили. Затем мы шли к мессе, что тем более не доставляло мне удовольствия; у меня была книжечка, и по ней я должен был следить за службой. Снова вижу ее перед собой, эту бедную книжечку: узкую и продолговатую, в мягком переплете с загнутыми уголками и в потрепанной синей обложке. Где читает священник, я никогда не знал. Время от времени я спрашивал у матери; она рукой в перчатке указывала мне строчку, и я читал, читал жадно, совсем не заботясь о том, чтобы следовать за службой, потом, забежав далеко вперед, я останавливался и погружался в глубокую задумчивость. К особенной моей досаде, мне запрещали разговаривать и оборачиваться назад, когда я слышал, как кто-то шевелится за моим стулом.
Но самое ужасное по воскресеньям начиналось после обеда. Мой отец, человек простых нравов, настаивал, чтобы его жена надевала самое лучшее платье и чтобы мы вместе отправлялись на прогулку. Она была очень молоденькой и очень красивой, и он гордился, показываясь с ней под руку, и демонстрировал всем вокруг: «Я – муж этого прелестного создания…» Но ей это не доставляло того же удовольствия, что ему, она далеко не разделяла его взглядов на жизнь, может быть, не разделяла даже ни одного, и одному Богу известно – почему соединились эти два существа!
И мы шли прохаживаться туда, где собирались воскресные буржуа, – под большие деревья общественного сада и на бульвары. Думаю, эта медленная торжественная прогулка утомляла мою мать не меньше, чем меня. На обратном пути мы часто заходили в кафе – всегда в одно и то же. Меня угощали «утенком»1, и я долго забавлялся, наблюдая за крошечным Мальстремом2 в папином стакане, когда он быстро размешивал ложечкой кофе со сливками. После отец считал необходимым навестить свою сестру. Она была замужем за поверенным и имела четверых детей. Это была маленькая, толстая, краснолицая женщина, суетливая, ворчливая, с широким и вечно лоснящимся лицом, как будто по утрам его смазывали маслом, чтобы не слышать ее скрипения. Жаль, что не смазывали и пружины ее характера, они в этом очень нуждались! Свою невестку она ненавидела; каждое воскресенье говорила ей неприятные вещи: то она чересчур элегантно одевается, то у нее всего один сын, то она слишком молода, или же делала неприятные сравнения между моей особой и четырьмя ее отпрысками – грязными, шумными, грубыми хулиганами, вечно упоенными весельем дикарей и исподтишка изводившими меня своими жестокими выходками. Мы с матерью втайне сходились в нашей общей ненависти и презрении к этой семейке, которую отец обожал. А вечером, по возвращении домой, родители ссорились, мама заявляла, что ноги ее больше не будет у золовки Ирмы, что ее надо оборвать, а он отвечал матери, что она до смешного обидчива, что у него милейшая сестра и он не собирается с ней ссориться из-за глупых женских историй… Нет, решительно, воскресенье было невеселым днем…
Но в одно воскресенье все пошло особенно плохо. Во время мессы я часто оборачивался посмотреть на сидевшую позади меня маленькую девочку с самыми красивыми на свете волосами, распущенными по плечам. Мать несколько раз наклонялась ко мне сказать: «Если ты не перестанешь, останешься без десерта…» По воскресеньям отец приносил пирожные, а я был большим сластеной. Однако привлекательность непослушания и привлекательность девочки подстрекали меня не слушаться. И наконец мать объявила: «Ты остаешься без десерта!» Сказала она это слишком поспешно, поэтому я все равно продолжал вертеть головой, пока шла служба.
Дома, за столом, произошло бурное объяснение. Мать рассказала, что я очень плохо вел себя в церкви и что я наказан. Я молчал и, затаившись, смотрел в тарелку. Отец долго бранил меня, потом наконец спросил:
– Ты не ешь?
– Нет, я не голодный.
– Это невыносимый ребенок! – воскликнула мать. – Я же говорю вам, Жозеф, надо отдать его в школу, ему это абсолютно необходимо!
Отец повысил голос, чем удивительно меня раздражал и не внушал мне никакого страха.
– Послушай, Леон, если ты не съешь мясо, то не пойдешь сегодня на прогулку!
– Я не голодный, – упрямо повторил я, испытывая острое желание наказать отказом есть всю семью, виноватую в оскорблении потомства3. Добавлю, что после обеда я надеялся наверстать свое на кухне: наша служанка всегда с готовностью потакала моим самым ужасным капризам.
– Ты не хочешь есть, чтобы досадить нам и потому, что тебя лишили десерта. Так вот, если ты не доешь мясо, которое у тебя на тарелке, обещаю, ты будешь также наказан и в следующее воскресенье!
Но мать вдруг сделала неожиданный вольт.
– Бедняжка! Может быть, он и впрямь не голодный. Ты не заболел? У тебя что-нибудь болит?
– Меня тошнит, – заявил я, обрадованный счастливым оборотом, который принимали события.
– Мы сделаем тебе чай! – торжественно воскликнула мать.
– Какая глупость, Жанна! Ты видишь, что ребенок капризничает, и принимаешь это всерьез!
– Дорогой мой, ведь когда он заболеет, не вы будете его лечить, не так ли? Неправильно считать, что дети всегда только и делают, что капризничают. Они могут заболеть, так же как мы.
Отец пожал плечами и продолжил есть.
Мне принесли чай, и я размочил в нем несколько галет. О пирожных я очень сожалел, но надеялся взять блестящий реванш за ужином.
Через час я объявил, что мне лучше, и все успокоились. Отец курил сигару, мать нас оставила, чтобы поправить прическу. Я проскользнул на кухню и, поскольку страшно проголодался, съел там немного хлеба и шоколада, которые всегда были припасены у Элизы для подобного случая.
Отец был в комнате у жены, когда я вошел. Заложив руки в карманы, он смотрел в окно. Он медленно обернулся и спросил:
– Куда пойдем сегодня?
Лицо матери все нахмурилось, словно она испытывала сильную усталость и глубокую скуку.
– Я не очень хорошо себя чувствую сегодня, – пробормотала она. – Думаю, мне лучше не ходить на прогулку…
– Что на тебя нашло, Жанна? Ты не хочешь гулять? Ты тоже капризничаешь, как Леон?
– Я не капризничаю, но я плохо себя чувствую и считаю, что мне разумнее остаться дома.
Мать говорила тихим и робким голосом, и ее неуверенный тон меня немного удивил. Обычно о своих решениях она объявляла в более категоричной форме.
– Что же ты будешь делать?