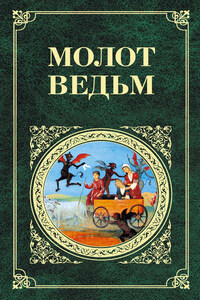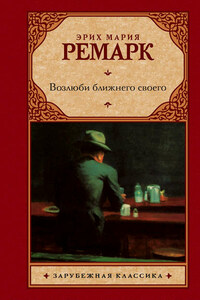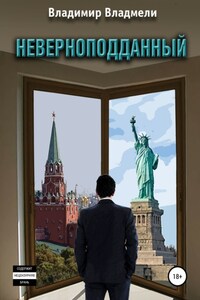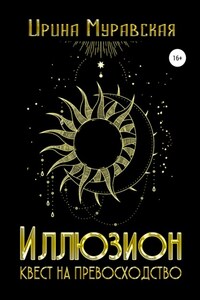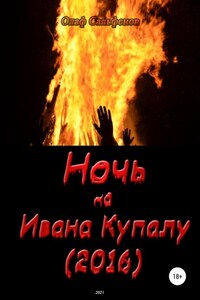В тысяча восемьсот сорок пятом году, в эпоху благоденствия и мира, когда молодая Франция была осыпана всеми дарами ума, таланта, красоты и богатства, в Париже проживала молодая, замечательно красивая и привлекательная особа; где бы она ни появлялась, все, кто видел ее в первый раз и не знал ни имени, ни профессии, обращали на нее почтительное внимание. И действительно: у нее было самое безыскусственное, наивное выражение лица, обманчивые манеры, смелая и вместе с тем скромная походка женщины из самого высшего общества, лицо у нее было серьезное, улыбка значительная, и при виде ее можно было повторить слова Эллевью об одной придворной даме: не то это кокотка, не то герцогиня.
Увы, она не была герцогиней и родилась на самом низу общественной лестницы; нужно было иметь ее красоту и привлекательность, чтобы в восемнадцать лет так легко перешагнуть через первые ступени. Помню, я встретил ее в первый раз в отвратительном фойе одного бульварного театра, плохо освещенного и переполненного шумной публикой, которая обыкновенно относится к мелодраме как к серьезной пьесе. В толпе было больше блузок, чем платьев, больше чепцов, чем шляп с перьями, и больше потрепанных пальто, чем свежих костюмов; болтали обо всем: о драматическом искусстве и о жареном картофеле; о репертуаре театра Жимназ и о сухарях в театре Жимназ; но когда в этой странной обстановке появилась та женщина, казалось, что взглядом своих прекрасных глаз она осветила все эти смешные и ужасные вещи. Она так легко прикасалась ногами к неровному паркету, как будто в дождливый день переходила бульвар; она инстинктивно приподнимала платье, чтобы не коснуться засохшей грязи, вовсе не думая показывать нам свою стройную, красиво обутую ножку в шелковом ажурном чулке. Весь ее туалет гармонировал с ее гибкой и юной фигуркой; прелестный овал слегка бледного лица придавал ему обаяние, которое она распространяла вокруг себя, словно какой-то необыкновенно тонкий аромат.
Она вошла, прошла с высоко поднятой головой через удивленную толпу, и – представьте себе наше удивление, Листа и мое, – фамильярно села на нашу скамейку, хотя ни Лист, ни я не были с ней знакомы; она была умная женщина, со вкусом и здравым смыслом, и первая заговорила с великим артистом; она сказала ему, что слышала его недавно и что он очаровал ее. Он, подобный звучным инструментам, которые отвечают на первое дуновение майского ветерка, слушал со сдержанным вниманием ее слова, полные содержания, звучные, красноречивые и мечтательные по форме. Со свойственным ему поразительным тактом и привычкой вращаться как среди официального мира, так и среди артистического, он задавал себе вопрос, кто эта женщина, такая фамильярная и вместе с тем такая благородная, которая первая с ним заговорила, но после первых же слов обращалась с ним несколько высокомерно, как будто он был ей представлен в Лондоне, при дворе королевы или герцогини Сутерландской?
Однако в зале уже прозвучали три торжественных удара режиссера, и в фойе не осталось никого из публики и критиков. Только незнакомая дама оставалась со своей спутницей и с нами – она подсела даже поближе к огню и поставила свои замерзшие ножки так близко к поленьям, что мы свободно могли рассмотреть ее всю, начиная с вышивки ее юбки и кончая локонами прически; ее рука в перчатке была похожа на картинку, ее носовой платок был искусно обшит королевскими кружевами; в ушах у нее были две жемчужины, которым могла бы позавидовать любая королева. Она так носила все эти вещи, как будто родилась в шелку и бархате, под золоченой кровлей, где-нибудь в великолепном предместье, с короной на голове, с толпой льстецов у ног. Ее манеры гармонировали с разговором, мысль – с улыбкой, туалет – с внешностью, и трудно было бы отыскать на самых верхах общества личность, так гармонировавшую со своими украшениями, костюмами и речами.
Лист был очень удивлен таким чудесным явлением в подобном месте, таким приятным антрактом в этой ужасной мелодраме и разошелся. Он был не только величайший артист, но и очень красноречивый собеседник. Он умел разговаривать с женщинами и, как они, переходил от одной идеи к другой, прямо противоположной. Он обожал парадоксы и то касался серьезных материй, то смешных; я не сумею вам описать, с каким искусством, с каким тактом, с каким безграничным вкусом он вел с этой незнакомкой обычный, немного вульгарный и в то же время чрезвычайно изящный разговор.
Они разговаривали так в продолжение всего третьего акта мелодрамы, а ко мне обращались только раза два из вежливости; я находился как раз в это время в том скверном настроении, когда человеческая душа не поддается никакому восторгу, и был уверен, что незнакомая дама считает меня очень скучным и глупым, в чем она была совершенно права.
Зима прошла, прошло лето, а осенью на блестящем бенефисном спектакле в опере мы вдруг увидели, как шумно открылась большая ложа в бельэтаже и там появилась с букетом в руках та самая красавица, которую я видел в бульварном театре. Это была она! Но на этот раз – в роскошном туалете модной женщины, сверкая блеском победы. Она была восхитительно причесана, ее прекрасные волосы были переплетены бриллиантами и цветами и так грациозно зачесаны, что казались словно живыми; у нее были голые руки и грудь, и на них сверкали ожерелья, браслеты, изумруды. В руках у нее был букет, не сумею сказать какого цвета; нужно иметь глаза молодого человека и воображение ребенка, чтобы различить окраску букета, над которым склоняется красивое лицо. В нашем возрасте замечают только щечки и глаза и мало интересуются всем остальным, а если стремятся сделать какие-нибудь выводы, то их черпают в самом человеке, и это доставляет немало труда.
В этот вечер Дюпрэ начал борьбу со своим непокорным голосом, окончательный бунт которого он уже предчувствовал; но он один это предчувствовал, большая публика этого и не подозревала. Только немногие любители угадывали усталость, скрытую под искусными приемами, и истощение артиста от колоссальных усилий лгать перед самим собой. По-видимому, прекрасная дама, о которой я говорю, была такой ценительницей: послушав несколько минут очень внимательно и не поддавшись обычному очарованию, она энергично отодвинулась в глубину ложи, перестала слушать и начала с лорнетом в руках изучать публику.
Вероятно, она многих знала среди избранной публики этого спектакля. По движению ее лорнета легко было заключить, что молодая женщина могла рассказать многое о молодых людях с самыми громкими именами; она смотрела то на одного, то на другого, без разбора, не выделяя никого своим вниманием, равнодушная ко всем, – и каждый отвечал ей на оказанное внимание улыбкой, или быстрым поклоном, или мимолетным взглядом. Из глубины темных лож и мест оркестра к прекрасной женщине летели другие взоры, пламенные, как вулкан, но их она не замечала. Но когда ее лорнет случайно попадал на дам из настоящего общества, она внезапно принимала такой покорный и жалкий вид, что было больно на нее смотреть. И, наоборот, она с горечью отворачивалась, если по несчастной случайности ее взор падал на красавиц, пользующихся сомнительной известностью и занимающих самые лучшие места в театре в большие дни. Ее спутник (на этот раз у нее был кавалер) был очень красивый молодой человек, наполовину парижанин, сохранивший еще некоторые остатки отцовского состояния, которые он съедал день за днем в этом погибельном городе. Этот начинавший жить молодой человек гордился своей спутницей, достигшей апогея красоты, с удовольствием афишировал свое право собственности на нее и надоедал ей всевозможными знаками внимания, которые так приятны молодой женщине, когда они исходят от милого сердцу любовника, и так неприятны, когда не встречают взаимности… Она его слушала, не слыша, и смотрела на него, не видя… Что он говорил? Она не знала; но она старалась отвечать, и эти бессмысленные слова утомляли ее.