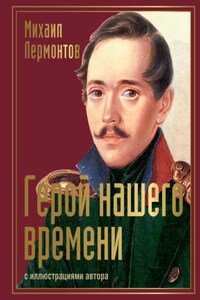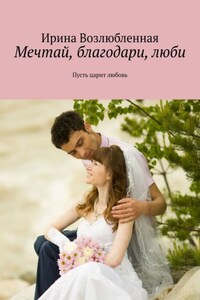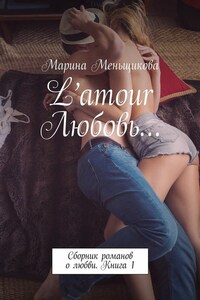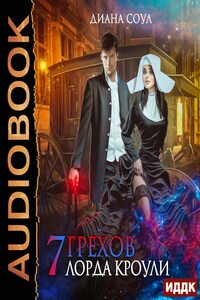Дениза стояла у обочины вокзала Сен-Лазар, где остановился поезд из Шербурга, на котором приехала она с двумя братьями, проведя ночь на жесткой скамье в вагоне третьего класса1. Она держала за руку Пепе, а Жан следовал за ней, и все трое, уставшие от поездки, растерянные и потерянные посреди огромного Парижа, задирая носы, смотрели на дома, спрашивая на каждом перекрестке улицу Мишудьер, где жил их дядя Бодю.
Но как только они вышли на площадь Гэйон, молодая девушка остановилась от удивления.
– О! – сказала она. – Посмотри, Жан!
И они остановились, прижавшись друг к другу, в своих черных одеждах, надетых по случаю траура по их отцу. Она, жалкая для своих двадцати лет, бедно одетая, держала легкий пакет, а с другой стороны стоял маленький пятилетний брат и вис на ее руке. А рядом плечом к ней прислонялся второй брат шестнадцати лет от роду, цветущий юностью, размахивающий руками.
– Отлично, – сказала она после минутного молчания, – вот и магазин.
Это было на углу улиц Мишудьер и Нов-Сэн-Огюстан, у магазина новинок, чьи полки сияли живой рекламой, в нежности и бледности октябрьского дня. В восемь колокола зазвонили на Сэн-Рош, на улицах не было никого, кроме утренних парижан; служащие и работники магазинов шли на свои предприятия. Перед дверью – двое работников подняли по двойной лестнице шерстяные изделия, а на витрине на улице Нов-Сэн-Огюстан другой служащий, встав на колени и согнув спину, аккуратно пришпиливал кусок голубого шелка. Магазин, в отсутствие клиентов, едва заполнился сотрудниками и звучал, как проснувшийся улей.
– Проклятье! – воскликнул Жан. – Это погружает в Валони. Но твой магазин не был так хорош.
Дениза кивнула. Два года она провела у Корнеля, в лучшем магазине города; этот потрясающий магазин внезапно попавшийся ей на глаза, принуждал биться ее сердце, удерживал, волновал, интересовал, заставлял забыть обо всем остальном. Высокая дверь, выходящая на площадь Гэйон, всеми стеклами поднималась на антресоль, украшенная сложным орнаментом и позолотой. Две аллегорические фигуры, две смеющиеся женщины, с обнаженной и запрокинутой шеей, разворачивали вывеску: «Дамское счастье».
Затем витрины тянулись по улицам Мишудьер и Нов-Сэн-Огюстан, где занимали, кроме углового здания, еще четыре дома, два слева и два справа, недавно купленные и отремонтированные. Это предприятие казалось бесконечным, в ускользающей перспективе, с полками подвального этажа и стеклами без антресольных тайн, за которыми виднелась вся внутренняя жизнь магазина.
Сверху мадмуазель, одетая в шелк, точила карандаш, пока рядом с ней две другие девушки разворачивали бархатные манто.
– «Дамское счастье», – прочел Жан с нежным смехом прекрасного юноши, имевшего интрижку с женщиной в Валони. – А! Это мило, это то, за чем гонится весь свет!
Но Дениза продолжала стоять, задумавшись, на том же месте, перед витринами у центрального входа. Там, на воздухе, на тротуаре, в гроздьях дешевых товаров – заманчивость двери, возможности, останавливающие клиентов в проходе. С высоты – куски шерсти и драпа, мериноса, шевиота, флиса, ниспадавшие с антресолей, развевавшиеся, как знамена, чей нейтральный, серо-грифельный, морской волны, оливково-зеленый был разбавлен белыми табличками этикеток. Рядом, обрамляя порог, висели ремни из меха, узкие ленты для украшения платьев, тонкая зола беличьих спинок, розовый снег лебединого брюха, кроличьи шкурки, выделанные под горностая или куницу. Дальше, внизу, в шкафчиках и на прилавках, посреди нагромождения отрезов, выплескивались продающиеся за бесценок трикотажные изделия, перчатки и трикотажные шерстяные платки, капоры, жилеты, вся зимняя пёстроцветная, полосатая узорчато- красная витрина. Дениза увидела тартанеллу за сорок пять сантимов, американскую норковую ленту за франк и перчатки за пять су. Это был гигантский базар; магазин, казалось, переполнился и выбрасывал излишки своих товаров на улицу.
Дядя Бодю был забыт. Даже Пепе, не оставляя руку сестры, раскрыл свои огромные глаза. Проехавшая карета заставила всех трех покинуть середину площади, и машинально они отправились на Нов-Сэн-Огюстан, любуясь витринами и каждый раз останавливаясь перед новыми. Сначала их прельщало сложное устройство всего; косо поставленные сверху зонтики, казалось, образовывали крышу деревенской хижины. Ниже – шелковые чулки, натянутые на манекены, показывали округлые профили икр. Одни были украшены букетами роз, другие – всех оттенков, черные прозрачные и красные, вышивкой по краям, чей атлас имел нежность белой кожи. Наконец, на полотне, на одной из полок лежали симметрично раскиданные перчатки, с вытянутыми пальцами, с узкой византийской целомудренной ладонью, и эта напряженная грация застыла, как девочка-подросток в ткани, которую никогда не носила. Но последняя витрина вдруг задержала их: выставка шелка, атласа и бархата распустилась в гибкой и переливающейся гамме самых нежных оттенков, наверху – бархат, черная глубина, творожная белизна, немного ниже – атлас, розовый, голубой, в живых, оживленных складках, обесцвеченных бледностью бесконечной нежности, еще немного ниже – шелка, весь радужный шарф, куски, завернутые в обшивку, плиссированные, как вокруг талии, которая изгибается и становится живой под знающими пальцами продавцов. И каждый мотив каждой фразы красочной витрины бежал под тайный аккомпанемент легкого шнурка видневшегося кремового шарфа. Это там, с двух краев спускались с огромных колонн два шелка, находившиеся в исключительной собственности дома, «Счастье Парижа» и «Золотая кожа» – редкостные вещи, которые своей новизной перевернут коммерческое дело.
– О! Это снижение цены, пять франков шестьдесят, – прошептала Дениза, пораженная «Счастьем Парижа».
Жан начал скучать. Он остановил прохожего:
– Это улица Мишудьер, мосье?
Когда ему указали на первую улицу справа, все трое вернулись к своему маршруту, обойдя магазин вокруг. Но когда Дениза оказалась на улице, она снова посмотрела на витрину, где были выставлены готовые платья для дам. У Корнеля, в Валони, ей было поручено именно готовое платье. Никогда она не видела подобного, и восхищение прибивало ее к тротуару. В глубине большой кружевной шарф от Бурже по значительной цене расстилался покрывалом алтаря и двумя развернутыми крыльями и красноватой белизной. Воланы алансонского кружева брошены были в гирлянды, и потом, полной горстью, – журчание всех кружев, мехеленского, валансьенского, брюссельского и, как снегопад, венецианского. Справа и слева куски ткани выглядели темными колоннами уходящей вдаль скинии. Там находилось готовое платье, в этой поднимающейся в качестве культа женской грации часовне. Центр занимали исключительно белье и бархатные манто, украшенные серебристой лисой. Рядом – ротонда из шелка, с серой обивкой; с другой стороны – пальто из драпа, украшенные петушиными перьями, и наконец, разные сорта бальных платьев, из белого кашемира, из белого флиса, украшенные лебедиными перьями или шелковыми лентами. На любой каприз, начиная от бальных за двадцать девять франков и заканчивая бархатными манто за восемнадцать сотен франков. Круглые шеи манекенов раздували ткань, сильные бедра подчеркивали тонкость талии, отсутствовавшая голова была заменена большой этикеткой, прикрепленной булавкой в красном флисе воротника, так что стекла по обе стороны витрины, с их рассчитанной игрой, бесконечно отражавшие и умножавшие, населяли улицы прекрасными женщинами, а цена была размещена прямо на голове.