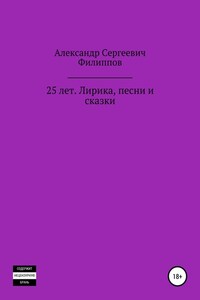Моя бабушка часто использовала в разговорной речи пословицы. Когда я что-то искала и не находила, она говорила: «Ищи, как солдат хлеб ищет». Если от меня требовалось что-то у кого-то узнать, и бабушка видела, что я задаю недостаточно много вопросов, я слышала: «Будь дотошная, как вошь портошная». Некоторые из этих пословиц мне нравились, другие я не понимала. Были и такие, которые пугали, хоть я и слышала их много раз и, кажется, должна была бы привыкнуть. Мне и сейчас сложно поверить в то, что бабушка могла сказать что-то подобное, например: «Мужу-псу не показывай задницу всю». Эта народная мудрость казалась мне облеченной в наиболее грубую форму: пословица эта претендовала на складность (я чувствовала это даже в детстве), но складной, по-моему, не была. Она была только пугающей: я представляла деревенскую бабу, задравшую юбку, демонстрирующую ягодицы собаке, похожей скорее на волка – лохматой и злой, – чтобы ее подразнить; собака эта рычала и скалила зубы. Даже в детстве мне думалось: не может такого быть, чтобы собака была мужем; в моем воображении этот злой волкопёс никак не приобретал человеческие черты, а значит, не имел ничего общего с человеком. Хуже всего было то, что бабушка говорила это не просто так.
Она была замужем дважды. О первом ее замужестве только то, что прожили они с мужем недолго, он ревновал ее, по ее словам, «к каждому столбу», а бабушка в молодости (да и потом, и потом) была смешливой и время от времени позволяла себе флиртовать (и хотя это современное слово – флирт – никак у меня с ней не ассоциируется, всё же она позволяла себе именно это) с другими мужчинами. Закончилось всё это тем, что однажды он погнался за ней с ножом. Кажется, кто-то остановил его, и бабушка убежала. Он пробовал найти ее и вернуть, бабушка пряталась от него и не возвращалась, а через несколько лет узнала, что его сбила машина, когда он переходил дорогу. «Вот тогда я и вздохнула свободно», – добавляла она обычно в конце рассказа.
Всё это произошло задолго до моего рождения. Я знала об этой части жизни бабушки только по фотографиям, где она с гладким, незнакомым мне молодым лицом сидела или стояла рядом с очень красивым молодым человеком с большими глазами и темными кудрявыми волосами до плеч, что было необычно для того времени. Вдвоем они были настолько красивой парой, что даже не верилось, что эта женщина – моя бабушка, хоть я и понимала, что это она. Вся та часть ее жизни, что прошла без меня, казалась мне немного не правдой, чем-то не существующим, похожим на сон. Так же я относилась и к бабушкиным рассказам про моего деда, единственного из двух ее мужей, которого я знала. В то, что когда-то он был лучшим в строительной бригаде, что он вообще был молодым и особенно в то, что за него хотели выйти замуж все знакомые бабушке девушки, мне не верилось. Как ни старалась напрячь воображение, я не могла представить себе его другим, не таким, каким знала: громадным, пугающе-сильным для меня, маленькой; человеком, один голос которого заставлял меня похолодеть от страха – не за себя, за бабушку, и если была рядом – за маму.
Каждый раз, когда я думаю о деде, мне вспоминается один вечер, похожий на другие, точно такие же, вечера и дни.
Темнело. Я качалась на качелях и наблюдала за бабушкой. Она заканчивала дела в огороде: поливала грядки, натягивала пленку на низкие парники с огурцами. Когда я взлетала на качелях особенно высоко, я видела, как из-за дальнего леса приближается тонкая полоса тумана. Мне нравилось смотреть, как он стелится по полю, надвигается на наш дом, словно собирается укрыть нас.
В такие вечера мне было спокойно. Я могла качаться часами, наблюдая за всем, что происходит вокруг. Мне нравилось, как бабушка заботилась об огороде, и мне думалось, что огурцы спят, заботливо накрытые пленкой, как одеялом.
Мы услышали его голос одновременно. Бабушка выпрямилась и посмотрела на меня. Даже сейчас, спустя годы, я помню этот взгляд: тревожный, виноватый, немного беспомощный.
Она оторвалась от своих дел и подошла ко мне. Я, чиркая по земле ногами, остановила качели.
– Неужели приехал?.. – спросила она. Бабушка всегда до последнего надеялась, что ослышалась. Но ошибиться было невозможно.
Этот голос я бы узнала из тысяч других голосов даже сейчас. Бабушка называла его «труба иерихонская». Громкий, наполненный каким-то особенным, глумливым весельем, он нес в себе разорение, будто приближающийся ураган. Мир раскололся, в нем наметилась и стала расти тонкая трещина. И вместо цельного, сиренево-зеленого полотна дачного вечера вдруг осталось разбитое стекло, осколки которого кое-как еще отражали оттенки засыпающего неба.
Стоя у качелей, мы с бабушкой обреченно ждали. Голос приближался, и мы начали различать уже не только сам звук, но и восклицания, и даже отдельные слова: «Здо-ро-о-ово… Воло-о-одька… о-о-о!.. а-а-а!..» Когда голос был настолько громким, это значило, что дед выпил, и немало, еще в Москве или по дороге, в электричке.
Он подошел к забору, снял проволоку, державшую калитку вместо замка. Дед шел к дому энергичной походкой. Когда он был пьяным, он никогда не шатался, наоборот, двигался увереннее, чем обычно. В мятой рубашке, брюках, с сумкой, похожей на мешок, на плече, он махнул нам рукой, крякнул и, хотя был уже совсем близко, почти закричал:
– Ну как, скучали тут без меня?!
– Скучали, как же, – вяло отозвалась бабушка.
Дед бросил сумку на лавку и взял топор. На улице было достаточно тепло, но, когда он приезжал пьяным, первым делом он всегда топил печь, вот и теперь собрался наколоть дров. Бабушка повернулась ко мне, едва слышно сказала: «Сегодня к Маше ночевать пойдем», и ушла в дом. Собирать вещи, догадалась я, и тоже пошла за ней, в нашу комнату, легла на кровать и накрылась с головой одеялом.
Под тяжелым ватным одеялом не так слышны были удары топора на улице. Я надеялась, что дед будет колоть дрова дольше, но услышала грохот: он принес дрова в комнату и вывалил их на пол. Я открыла глаза и села на кровати, глядя, как он набивает нашу крошечную печь до отказа, так, что заслонку закрыть уже не выйдет, и она будет стоять будто с набитым ртом. Дед втиснул между поленьями и поджег газету. Он стоял, пошатываясь, глядя на разгорающийся огонь. По комнате, словно вечерний туман по полю, пополз дым. Дед выглядел довольным. Глаза его поблескивали нездоровым огнем. И вдруг он посмотрел на меня, словно только заметив. Сощурил глаза, как будто хотел разглядеть получше, сжал кулаки, распрямил спину и процедил сквозь зубы: «Я царь. Я бог. Я – высший-высший. Я – великолепный». При этом он кивал головой, подтверждая свои слова.