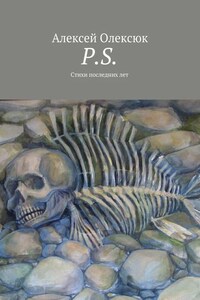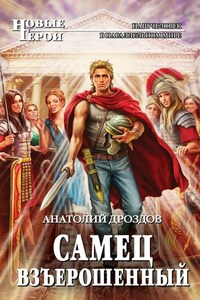– Я ещё застал большой кованый сундук, который стоял на кухне, справа от входа, накрытый плотным войлоком, чтобы гости могли присесть, когда снимали или надевали обувь. В сундуке хранились книги. Множество книг, собранных моим дедом. Среди современного типа изданий встречались иногда и старинные – с ятями и ерами: из букинистических лавок или книжных магазинов. Их запах – тёплый, чуть прелый, обволакивающий мягкой грустью, как обволакивает голову повышенная температура, – это запах моего детства. Белая пелена страниц, чёрные гроздья слов – словно пашня, припорошенная снегом.
– Что же это были за книги? – спросила девушка, по-прежнему стоявшая чуть поодаль. Её собеседник, напротив, навис над перилами моста, над тёмными волнами, вскипавшими белой пеной у массивных бетонных опор. Резкий электрический свет, отвесно падая из опрокинутых вниз стеклянных пирамид, подобно кислоте протравливал медную пластину ночного воздуха, обращая монументальную живопись городской панорамы в лаконичный офорт.
– Я не помню названий. Но я помню, как дед приносил очередную купленную им книгу, как бережно клал её на скатерть, как осторожно перевёртывал листы, как тут же налетала на него бойкая, не сдержанная на язык жинка: «Да щоб воны згорилы, кныжкы прокляти!», – и как он спокойно отмахивался от её упрёков: «Пустое! Гроши – что?! Наживём ещё. А такую книгу грех не купить. Вот ты послухай, что в ней прописано…»
Аделаида смахнула влетевшую в окно ночную бабочку и перевернула страницу.
– Каждый вечер после ужина дед выуживал из зеленоватой воды забвения одну из плотных, с матовой кожей рыб – молчаливых и всезнающих, прохладных, как лёгкий озноб, но живых, одушевлённых. Дед сажал меня к себе на колени и, водя заскорузлым пальцем с жёлтым окостеневшим ногтем по строкам, учил грамоте… Аз есмь… Его жёсткая щетина щекотала мне щёку. Он учил дышать под водой, в глубине, где обыденная речь глохнет, сжимаемая чудовищным давлением до густоты поэзии…
Антон оторвал взгляд от тёмных всплесков, нёсших в себе пологое дыхание Ладоги, и, выпрямившись, всмотрелся в лицо своей спутницы: по природе своей хрупкое, ломкое, оно не выглядело умиротворённым – какая-то затаённая смута начисто стирала все определения, делая смуглые черты под стать сумрачным очертаниям города… Зеленоватые отсветы лежали на самом дне серых очей.
– Вы озябли? – он никак не мог окончательно перейти на «ты».
– Нет, ничуть, – поспешно ответила Аделаида.
– У вас вздрагивают плечи.
– С чего вы взяли?
Но жёсткая мужская ветровка – тяжёлый, пропахший поездом и папирусной пылью библиотек кожух – уже опустился на её плечи.
– Нет смысла стоять на ветру. Всё равно мост разведён, – категорический тон не оставлял места сомнениям. Это покоробило девушку, хотя мост и ей казался слишком шатким основанием для беседы: клёпаные стальные конструкции висели в стылой метафизической пустоте, опираясь лишь на туманные основания башен из британской мифологии. Причём, башни были туманны сами по себе, в силу своего архитектурного облика, в то время как прочие предметы в ярком электрическом освещении выглядели очерченными чересчур даже чёткими линиями, так что девушка боялась порезаться об острые голубоватые тени, лежавшие на тротуаре.
– Что же дальше? – спросила она, стремительно двинувшись к набережной.
– Дальше? – Антон едва нагнал её на спуске с моста – там, где ступени вели к воде, вниз, на самое дно города с его неистребимым запахом мочи и пива (смятая жестяная банка прилагалась), с окурками и презервативами, которые, впрочем, на фоне гранита смотрелись не так мерзко, как на провинциальном асфальте.
– Ночь почти на исходе, – произнесла Аделаида, чуть замедляя шаг, – а ваш рассказ увяз в лирических отступлениях, так и не добравшись до сути.
– Да, вы правы…
– После смерти деда семья наша перебралась в город. Впрочем, город ли? Старожилы называли его «большой деревней». Они ещё помнили те не столь отдалённые времена, когда в нашем одноэтажном Чикаго среди мазанок, срубов, землянок и полуземлянок высилось ровным счётом три трёхэтажных здания – Дума, Острог и Пассаж. Был, правда, ещё собор – красивый, уравновешенный, о пяти золочёных куполах; он стоял на огромной, размером с княжество Лихтенштейн, Базарной площади, в дни ярмарок сплошь уставленной телегами и кибитками, а в прочие – пустынной и пыльной. И была рядом с площадью ещё одна достопримечательность, обязательная в городе с деревянной застройкой – пятнадцать метров кладки из красного и белого кирпича, оформленной чьей-то фантазией в некое подобие московского модерна. С пожарной каланчи отчётливо была видна правильная планировка с широкими, как Невский проспект, улицами, уходящими в перспективу – к зарослям краснотала, зримо обозначавшим лога, за которыми виднелись в беспробудной степной дали десятки ветряных мельниц, моловших полынный воздух, истиравших его в сухую горьковатую пыль провинциальной скуки, что при первом же дожде раскисала вязкой грязью поголовного пьянства. Пили много. Вёдрами. В кабаках ставили ведро водки у лавки и черпали жестяной кружкой, пока та не начинала скрести дно. Остатки выливали в рот, подняв ведро и запрокинув голову, покачиваясь, обливая рубаху и скатерть. Это был город санчо-панс. Но иногда попадались и дон-кихоты. Первоначально их было не много: в основном, из числа политических ссыльных, открывавших бесплатные читальни, насаждавших чахлые деревца против пыли и чайные против пьянства, организовывавших первые любительские спектакли и первые забастовки на первой в городе паровой мельнице. После революции количество дон-кихотов начало возрастать катастрофически и в годы Целины превысило число простодыристых санчо-панс. Город менялся. Вместо ветряных мельниц на окраинах вздымались трубы промышленных предприятий, рядом с которыми закономерно росли спальные кварталы типовых многоэтажек. Мы переехали в одну из них в тот самый год, когда в центре снесли старую пожарную каланчу. В просторной и светлой квартире с видом на зелёную аллею (переезжали в начале августа) и площадь перед Дворцом культуры требовалась новая, сугубо городская мебель. Поэтому место кованого сундука занял добротный книжный шкаф. Это громоздкое сооружение из полированного дерева держалось истым аристократом: этакое подобие Вавилонской башни, снизу доверху утыканное всевозможными раздвижными дверцами, откидными дверцами, обычными распашными дверцами (я уж молчу о выдвижных ящиках). За слегка запотевшим прозеленью стеклом, на прогнувшихся от бремени полках, в софийской пыли осыпавшейся позолоты – чувствовалась острая тишина листопада. И когда я, пытаясь рассмотреть имена на потемневших, чинных, как чиновничьи мундиры, корешках, касался лбом стекла, меня обжигало нешуточным холодом, словно проводили по лицу зеленоватым и солёным куском льда.