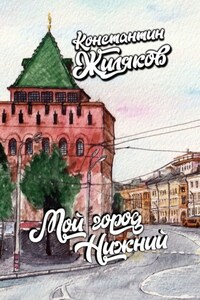Впервые в Алма-Ате. Я иду с рюкзаком за спиной по солнечному спящему городу. Широкая бесконечная улица прямо от вокзала в сторону едва видимых вершин. Я иду так, как будто это не город, а вся земля медленно поворачивается под ногами. Нет никаких людей – и быть не может. Нет никаких машин – и быть не может. Есть я и Земля, над нами Солнце, и где-то впереди – Горы. Потом, потом я увижу всё это сверху, с трех тысяч метров высоты. Земля окажется действительно круглой, как говорили физики, но концы её загибаются не вниз, а вверх, то есть, очевидно, люди живут не снаружи шара, а в его внутренности. Отсюда постоянное припоминание о настоящей жизни, отображением которой по формуле 1/z наша действительность и является. Ну что ж, внутренность так внутренность. Надо только время от времени делать на это поправку, иначе ошибка восприятия становится просто чудовищной.
Всё, что я увижу в экспедиции, в чем буду принимать участие, окажется точно таким скукоживанием работы людей, здесь живших лет за пятнадцать до меня, с каким уже сталкивалась после МГУ – никто ничего не делал, хотя до меня там люди трудились с огромным энтузиазмом.
Вот это и было настоящим счастьем, потому что, не имея никаких обязанностей, можно было заниматься собой. Общество освобождало людей от своего присутствия, и люди поступали каждый по-своему: одни спивались, другие шли в диссиденты и боролись за то, чтобы общество вмешалось в их жизнь, заставив их или умирать с голоду, или работать до изнеможения. Аминь. Люди всегда борются за то, чтоб им хуже жилось.
Итак, Алма-Ата. Сначала база, то есть перевалочный пункт в городе. Я приехала сюда в день, когда раз в неделю, обычно по понедельникам, машина с базы увозила всех наверх. Рядом со мной двое рабочих. У одного в авоське газеты столбиками и некоторый бесформенный пакет. У второго сумка непрозрачная. Их разговор, образный, ёмкий, почти без мата, полностью мне недоступен. Все слова знакомы, но связь между любыми двумя неуловима. Я слушаю, как песню на незнакомом языке, открыв рот, но для приличия отвернувшись. Интересно, овладею ли я этим языком когда-нибудь? Наконец, грузимся и едем.
Сначала едем по улицам. Город, не похожий на те, что видела прежде. Он просторен. Нет муравейников, слепленных из домов, нет муравейников, слепленных из машин. Этот город не для муравьёв.
И вот мы из него выехали. Медленно поднимаемся по тополиной аллее прямо к горам. Цветет урюк. После черного снега Москвы – инопланетное чудо. Аллея прямо, не дрогнув, летит к линии гор, от этого возникает чувство надежной бесконечности, будто мы не в горы едем, а возносимся к вершине свободы.
Вот и началось. Слева река, мы в ущелье. Скалы вокруг, впереди ёлки. Но не ёлки, а ели: чинными девушками собираются вдали в кружок, в стаю, в цепь. Газик прыгает от моста к мосту. Река то слева, то справа – ревёт вот уже баритоном – тише, тише, и снег – свет. Белого всё больше, и вот весне конец. Снег и туман. В разрывах густого тумана, в надрывном гуденье мотора в белые снежные ноздри уткнётся машина, но нет. В последний момент извернётся – останемся целы, и выше, и выше вперёд.
Прибыли, но видимость ноль. Почти вплотную подъехав в туманной мороке к избушке, заметим и камень огромный, избушка приткнулась к нему, и ель, этот камень подствольный держа, не роняя, сама между тем теряется где-то вверху. На избушке надпись: ТРАКТИРЪ. Рядом навес для машин. Под навесом что-то копает малыш.
* * *
– Наташа, расскажи мне историю.
– Какую тебе историю?
– Мне про Пушкина.
– Ну, слушай. Пошел Пушкин на озеро. Подходит, а озеро замерзло. Отошел он от него и к елке направился. Прямо вплотную подошел. Подошел вплотную, а елка возьми да и исчезни.
– Почему, Наташ, почему она исчезла?
– Туман был. И вот стоит он рядом с елкой, а ее нет. И говорит тогда Пушкин: «Ну, брат Пушкин, ты совсем того».
– Что это, «того»?
– Ну, «того», это значит «этого».
– А чего, Наташа, этого?
– А этого значит того.
– Наташа! Я не понимаю. Ты меня обманываешь, это не про Пушкина.
– А про кого же?
– Не знаю. Про Пушкина – стихи.
Малыша зовут Петя. Ему пять.
В сторону озера с Петей идем по дороге – летом можно меж скал по траве напрямую спуститься бегом, но апрель, и снега только чуть почернели. Сверху вниз дорога-змея, извиваясь, на прежнее место стремится. Под ногами ледок и песок, и мелкие камни. Удобно бежать. «Петя, – кричу, – а вверх как, сил хватит?» Петя смеется, «Еще». Наконец, повернули назад. И что же? Вверх не вниз. Только несколько метров прошел: «Я голодный, Наташа. А голодный не ходит пешком». Я пытаюсь игрою, забавой заставить Петю про голод забыть и про то, что идти тяжело. Но Петя все тише шагает, все дольше на месте стоит. Развлекать малолетку не легче, чем его же тащить на горбу. Петя верблюда обнял, закачался, но чуть показались дома, «сам» закричал, спрыгнул на землю, и умчался, не то что верблюд.
Сидим с Петей у меня в комнате на кровати. Петя обползает меня, суется с другой стороны и вдруг серьезно просит:
– Расскажи мне сказку.
– Я тебе лучше книжку почитаю.
– Про Пушкина?
– Нет. Ее написал Никольский. Он ученый. Читал разные книжки, а потом сам вот эту написал. Давным-давно, в начале шестнадцатого века на севере в лесу было такое место – монастырь.
– Это как Саратов?
– Нет, это крепость, и в крепости жили люди и за нас с тобой молились Богу. А вокруг было так. Перед монастырем озеро, и за монастырем тоже озеро. Выйдешь из ворот, встанешь на горке, и далеко, далеко видно.
– Как у нас?
– По-другому. У нас горы высокие и близко. Вот они даль и заслоняют. А там ровно, поэтому с высокого места далеко видно: белое озеро, мыс, за мысом ели черные в озере.
– А ты в начале шестнадцатого века жила?
– Конечно. И вот в это время главным у них был Иоасаф. На самом деле он князь Оболенский, но нравилось ему в монастыре, и компания хорошая подобралась. Художник Дионисий с бригадой. Кто книгу там писал, тоже хороший человек.