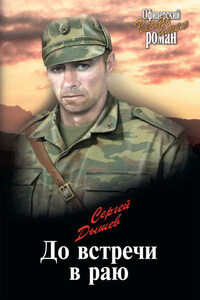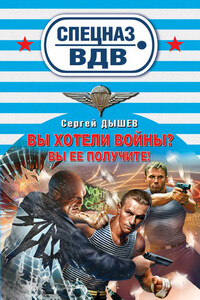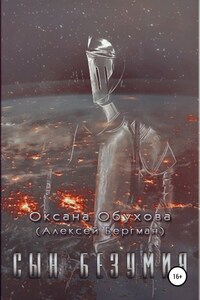Полковнику Владимиру Михайловичу Житаренко —
журналисту, погибшему на чеченской войне.
К-Тюбинский гарнизон. 113-й мотострелковый полк МО РФ (в/ч 12345)
(Конец ХХ столетия)
Лаврентьев заснул на «панцир-кровати», полулежа, опершись спиной на карту неподеленной еще Родины, аккурат там, где была Таджикская Советская Социалистическая Республика. Ресницы его подрагивали, будто грезились ему в полудреме яркие вспышки усопшего дня; в полуприкрытых глазах отражались желтые лучи керосинки, серебристыми опилками отсвечивала отросшая щетина, на воротнике топорщились темно-русые космы. Крепкие узловатые кулаки подрагивали на заправленном по-уставному одеяле синего цвета, пальцы были сжаты – то ли от злости, то ли от глубоко запрятанной боли. Наверное, все нутро у него страдало, источенное язвами от хреновой жизни.
Когда человек спит, он обнаженно беззащитен. Лаврентьев спал – почти не дышал. Даже не храпел, как обычно, – обессилел. Потрескавшиеся губы, массивный подбородок, безвольно опущенный на грудь. Не Лаврентьев, привычный энергоноситель, а полудохлая рыба, болезненная, загнанная в сеть…
Ольга тихо отворила дверь, осторожно опустилась на стул перед забывшимся Лаврентьевым. Она подумала: «Мне кажется, что я знаю про него почти все».
За черным окном перешептывались длинные ветви тополя. Они будто хотели заглянуть в маленький желтый кусочек окна и выяснить, почему обитатели дома прячутся за спинами и животами бесформенных толстяков, которые вповалку неподвижно лежали на подоконнике аж до самой форточки. Мешки на окнах имеют свойство преображать любое помещение, навевая неистребимую складскую тоску.
Один мешок прохудился, из него серой струйкой сыпался песок. Ольга проследила взглядом: на полу вырос маленький холмик. «Как в песочных часах, – подумала она. – Только в обратную сторону уже не повернешь». И еще она вспомнила поразившую ее фразу о старых людях, из которых тоже песок сыплется: неужели это правда? Она поежилась, почувствовала мимолетную тревогу и, чтобы успокоиться, пристально всмотрелась в Женечкины черты. «И вовсе не такой он старый!» Даже сейчас, когда его лицо продолжало хранить болезненное напряжение, оно действовало на нее успокаивающе.
Оля незаметно для себя задремала, ощутив сквозь сон, что дыхание их попало в такт, и это необычное единение приятно поразило ее. Только у нее вздымалась грудь, а Женечка, как и все мужчины, дышал животом, ему мешал туго стянутый ремень. «Мне не стыдно смотреть на него», – подумала она. Оле захотелось погрузить пальцы в его отросшие рыжеватые волосы, схватить и подергать бакенбарды, притянуть к себе, прижать к груди эту глупую и нелепую голову. Она протянула руки, но в последнее мгновение, сожалея, медленно отвела. Она попыталась вспомнить, когда последний раз спала с мужчиной. С кем – помнила, но вот когда… С некоторых пор мужские человеки вызывали у нее беспричинное раздражение, она устала быть в их глазах сексуальной жертвой. Особенно выводили ее из себя местные. Особенно после «суверенизма», по причине которого население просто стонало от счастья. Наиболее прыткие лица мужского рода сразу же бросились «приватизировать» всех «некоренных женщин».
Комната неожиданно поплыла. Чтобы удержать ее, Ольга судорожно схватилась за Женькино колено, иначе бы рухнула с грохотом.
Лаврентьев вздрогнул, поднял припухшие веки.
– Чего тебе?
– Извините, я случайно, – сипло произнесла Ольга.
– Иди спать!
Она поспешно встала, отодвинула стул. Коптилка мигала, высасывая последний керосин.
– Черт, из Москвы должны позвонить! Этот…
– Там уже все спят. Давно…
– Должен позвонить этот… Ч-чемоданов! – Он покосился на короткую юбчонку Ольги. – Какого черта так вырядилась?
– Жарко, – произнесла она заранее приготовленный ответ и почувствовала, как по обнаженным ногам пробежал холодок. «Дура набитая! Только это ему сейчас и надо!»
Лаврентьев действительно забыл про Олины ноги, он отхлебывал из кружки холодный чай и затягивался сигаретой. Пепел сыпался на колени.
Скрипнула дверь, появилась голова в очках, за ней проскользнул и сам хирург Костя по кличке «Разночинец». Он молча подошел к Лаврентьеву, слегка пошатнулся, его очки тревожно блеснули. Костя стал неторопливо раскладывать на столе различные вещички: зеркальную коробочку со шприцем, пузырек, ватку, потом он задрал у клиента рукав и, прыснув из иглы в небо, воткнул ее в руку. Так же бессловесно Разночинец собрал эти почти культовые предметы и уже направился к двери, когда лаврентьевский голос его остановил:
– Ты опять пьян. Посадил бы тебя на «губу», но сейчас это было бы слишком экстравагантно. Спирт остался?
– Принести?
– Не надо. Докладывай.
– Принял роды. Мальчик.
– Хорошо. Это к войне.
– Заштопал трех аборигенов.
Лаврентьев задумался. Костя решил, что самое время улизнуть: впрыснутое начнет рассасываться, шефу станет хорошо, в прогалинах черепной коробки – отчетливо и свежо, потом начнется энергетический позыв к действию, а ведь ему, Костику Разночинцу, очень хотелось спать. Уйти, прихватив оставленный за дверью еще теплый от солнца автомат калибра 5,45, пуля – гуляка-телорванка. Он, хирург, и то ужаснулся почти до рвоты, когда впервые увидел, что натворил этот заостренный кусочек тускло-желтого цвета.
Костя осторожно попятился к двери, но Лаврентьев снова остановил его:
– Садись, будешь писать.
Костя обреченно сел, снял очки, стал протирать глаза, потом стекла. Закончив, придвинул большую книгу с разлинованными синими листами: в ней что-то учитывалось.
– Сегодня на этом столе лежали три миллиона рублей и два золотых слитка. Очень приличных. Они хотели, чтобы я продал им три танка.
– А кто это был? – испуганно спросила Ольга.
– Не перебивай! – сверкнул белками глаз Лаврентьев. – И один из них, Салатсуп или Супсалат, выложил на стол гранату и сказал, что подорвет меня на хер и всех их троих заодно, если я не уступлю. Но (это, Костик, выдели толстыми буквами) гвардии подполковник Лаврентьев в сложившейся экстремальной ситуации не дрогнул, проявил хладнокровие и воинскую смекалку, уверенно и четко послав представителей Нацфронта на хер. Что они незамедлительно и исполнили. Жертв и разрушений нет… Этого же дня была обстреляна машина, направлявшаяся во второй караул. Ранен в руку офицер Скоков. Навылет…
Лаврентьев потянулся за сигаретой, почесал заросший щетиной кадык.
– Двадцать лет назад у меня была тысяча возможных вариантов судьбы, хотя сам я был зеленым огурцом с желтой рисочкой на правом или, не помню, левом рукаве. Престижный юноша, помышлявший о загранбазах на землях демократических друзей по временной идеологии. Все оказалось еще более временно, да так, что я не успел добраться до этих самых друзей. А многие мои однокурсники успели. «Друзья» же почему-то перестали дружить и стали обзываться в наш адрес. Когда лев уходит, все мартышки – триумфаторы. Верещат в своем обезьяннике, пердят и радуются… По выпуску мы все, как один, обзавелись фарсово-утонченной деталью туалета – лаковыми сапогами с зеркальными раструбами и вставками из китового уса. Да-да, это было очень модно. Не знаю, сколько там китов перебили. Сейчас этого шика не понимают.