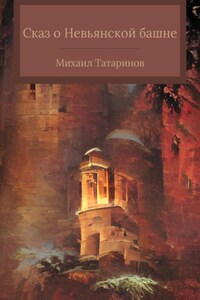В самый разгар Восьмидесятилетней войны, прибыл в Нидерланды молодой человек. Несмотря на свой юный возраст он имел уже чин лейтенанта, в седле держался твердо и вообще, весь его залихватский вид дышал той особенной отвагой, которая присуща всем жителям Пьемонта, по ту сторону Апеннин.
В Амстердам молодой человек попал уже под вечер, а поскольку на дворе был конец осени, то к трактиру "Весёлый кабан" он подъехал, когда сизые облака основательно затянули небосвод, а бледное солнце уже успело свалиться на запад. Проще говоря, в ту минуту, когда наш лейтенант привязывал свою лошадь к коновязи, на землю опустились те сумерки, какие местные жители обычно величают не иначе, как "октябрьской полуночью".
Привязав коня, лейтенант решительно распахнул дверь, из-за которой его обдало запахом жареного лука, несколькими громкими голосами, стуком деревянных кружек, в которых пенился эль, белыми хлопьями слетавший на поверхность грубых столов и хриплым сопрано седого моряка, что возлежал на широкой скамье в углу трактира, возле бочки с солёными огурцами.
Убедившись, что публика в основном состоит из голландцев; лишь на четверть разбавлена французами; с ничтожным осадком германцев и полным отсутствием проклятых испанцев, лейтенант немедленно затребовал себе ужин и комнату. Добрая и полная хозяйка в расшитом переднике, признав в солдате испанского врага, радостно засуетилась и буквально за какие-то четверь часа, перед лейтенантом объявилась яичница, заправленная салом, добрая пинта шипящего эля, а во флигеле его ждала комната, где на железной кровати уже скучал по новому гостю мягкий матрас.
Солдат отдал должное яичнице и кружке с пивом, осушив которую, попросил ещё. Когда эль подружился с желудком лейтенанта и отправился знакомится с его головой, их хозяин достал крепкую пеньковую трубку, неспеша набил ее табаком и основательно раскурив, облокотился локтями о стол.
Подошла хозяйка и спросила не желает ли он чего-нибудь еще? Лейтенант, яростно попыхивая трубкой и выпуская густой дым через уголки рта и широкие ноздри, попросил только задать его коню меру овса.
Добрых полчаса сидел наш лейтенант, окутанный табачным дымом, жевал мундштук своей трубки, думал о войне и под парами крепкого пива вздыхал время от времени.
Из задумчивости его вывел голос постояльца, пировавшего за соседним столом. На чистом французском, каким так и не овладел до конца, но которым всегда восхищался Генрих Беарнский, лейтенант услышал следующие слова:
– Милостивый государь, товарищи мои плохо относятся к испанцам, но ещё больше они не терпят молодчиков, что показывают врагу круп своей лошади. Вы не из тех, надеюсь?
– Любезный,– отвечал лейтенант,– я не меньше ваших товарищей ненавижу испанцев и не разу ещё не показал этим кастильским псам своей спины, но когда меня отвлекают от моей трубки и размышлений, неважно, будь то француз, голландец или даже нечестивый мавр, этот малый рискует превратиться в моего врага, а звание это, смею вас уверить, весьма незавидное.
– Ответ смельчака. Но в наше время, мы, превыше всех добродетелей, ценим прежде всего дело.
– Я к вашим услугам, сударь! – ответил молодой лейтенант, гася трубку и поднимаясь из-за стола.
– Ого! – воскликнул собеседник, отходя на шаг назад.– Как вы, однако, вспыльчивы. Безрассудство молодости, я полагаю?
– Плоды должного воспитания. Не угодно ли вам проследовать за мною во двор, раз уж вы так печетесь о деле?
Лейтенант двинулся к двери.
Однако постоялец только улыбнулся, весьма довольный действиями молодого военного и поспешил сообщить:
– Не утруждайте себя, если вы намереваетесь немедленно доказать свою храбрость дракой со мною. Найдется более гуманный способ выказать вашу отвагу.
– Какой же?
– В паре кварталов отсюда есть старый дом судьи Ван Паттена. С недавнего времени он, говорят, кишит призраками и в нем пропадают люди. Вот хороший случай проявить бесстрашие, доказав слова делом.
– Я не верю в привидения, – ответил лейтенант, – оттого и не могу взять в толк какая храбрость здесь может пригодится.
– То же самое я говорил своим товарищам. Какая выгода, сказал я им, если этот молодой человек не верит в нечисть. Уж я то разбираюсь в людях. Но товарищи мои упрямцы, почище тирольских быков, настаивают на доказательствах. А когда я сообщил им, что по всему вы ещё и пьемонтец, они, все как один, загалдели, будто ваши вояки набираются храбрости, только если в руках их находится по заряженному пистолету.
– Ваши товарищи невежи, – сказал лейтенант, – и я бы с удовольствием наделал в них дырок, но коли уж они ссылаются на оружие, заменяющее пьемонтцу его бесстрашие, я готов следовать за вами хоть к черту в преисподнюю.
На том и порешили. Лейтенант велел хозяйке держать его комнату, так как собирался утром вернуться в трактир.
Шумная толпа из пяти человек вывалилась за дверь и направилась к дому судьи.
В те времена Амстердам представлял собою городок лишенный каких-либо изяществ. Его приземистые домишки, в которых в это время суток уже не было видно ни одного огонька, тесно лепились друг к дружке, будто испуганные дети, которых садовый сторож застал за поеданием груш. На некоторых крышах вертелись ржавые флюгера, которые так жалобно скрипели, что уныние от созерцания и без того удручающей картины, усиливалось ещё сто крат.
Редкие фонари бросали слабый отблеск на каменные мостовые и совсем не рассеивали мрак.
Топот десяти ног наших ночных путников, грохотом поднимался из под сапог и громогласным эхом рассыпался по темным глухим подворотням. Миновав мост через Амстел, скудно освещаемую выбравшимся из-за туч бледным полумесяцем, компания свернула на улицу Дамрак, где темной громадой высился старый дом, некогда принадлежавший городскому судье Дедерику Ван Паттену, а ныне пришедший в совершенное запустение и упадок. Судья почил уже без малого сотню лет назад, не оставив после себя ( кроме долгов разумеется) ни одного родственника, который мог бы предъявить свои права на дом. Совет городской управы не придумал ничего лучше, как сдавать особняк внаём. Желающих оказалось не много и бывшая обитель старого судьи не приносила ничего, кроме убытков. После, кому-то взбрело в голову устроить здесь морской музей, но первые же приготовления к переделу, ознаменовались внезапным исчезновением руководителя работ и двух наемных архитекторов, выписанных из Литвы. Эти бедолаги имели неосторожность на время своих созиданий поселиться в самом доме. Рабочие, все как один, заявляли, что их, бесспорно, утащили черти, так как ни одного тела не нашли.