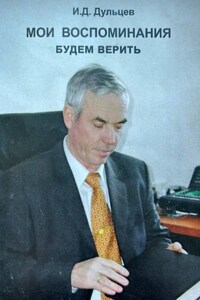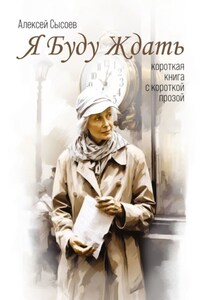От нас поднимался пар, честное слово. День был душный, ни одна занавеска на окнах не шевельнется. Мы уже заполнили тесную комнатку под завязку и друг друга утрамбовывали локтями, а двери все раскрывались со скрипом, люди входили еще. Мы кричали им:
– Ждите на улице, черти!
Видя все это, Очкарик за конторкой и не думал работать быстрее. Как будто он не задыхался от пота, от тяжелого, горячего пара наших стреноженных тел. Медленно водил пальцем по бумажкам, потом облизывал самый кончик пальца, переворачивал лист и снова начинал водить.
– Я б его сейчас размазал по стеклу вместе с очками, – нетерпеливо шепнул мне парнишка с прыгучими повадками цепного пса. Кажется, его звали неожиданным миролюбивым именем Славик.
У Очкарика на столе стоял маленький вентилятор с такой грязной лопастью, словно им взбалтывали лужи, и гонял горячий воздух туда-сюда. Плексиглас, отделявший Очкарика, с его стороны был оклеен цветными записками. С нашей – посеревшими от времени инструкциями. Нам следовало «соблюдать тишину и очередь», «помнить об обязанности доставлять груз в целости и сохранности, в точно обозначенный срок» и много чего еще. Очкарик был мастер придумывать обязанности, а деньги за работу выдавал крайне неохотно – тот еще Гобсек. Несмотря на это, летом к нему стекались толпы старшеклассников. Кто-то копил на мотоцикл, кто-то начинал откладывать на учебу, кто-то без жалости спускал заработанное на подружек или в автоматах, или попросту относил родителям, едва сводящим концы с концами.
Девчонка стояла передо мной. Я видел только ее затылок, уши и усыпанную веснушками шею – так плотно сцепила нас очередь. Примечательными, конечно, были уши, нежные и прозрачные. Я вспоминал, как в детстве собирал розы на варенье. Ранним майским утром бабушка будила сначала Лизу, потом меня, беззлобно ругая «мешкотными». Долгое время я думал, что это из-за мешков – она давала нам жесткие, плотные наперники. Собирать бутоны нужно было очень рано, чуть просохнет роса. Мы обрывали цветы, стараясь не уколоться, и опускали в мешки. Лиза – более высокая – дотягивалась до самых крупных, махровых. Взметывались потревоженные жучки, последняя роса кропила руки, благоухало вокруг так, будто на свете нет больше ничего, кроме розовых кустов. Потом мы несли полные мешки в дом и ссыпали бутоны на расстеленную клеенку. Бабушка с Лизой долго выбирали листья, веточки, осыпающиеся желтой пыльцой тычинки, заблудившихся в цветах хрущиков, я убегал во двор, полагая, что это нудное дело – женское, как все нудные дела. Мне было лет шесть или семь.
Уши у девчонки – точь-в-точь розовые лепестки, с бисерными капельками утренней росы. По тому, как кривились ее плечи, я понимал, что она тоже устала стоять, и переминается с ноги на ногу. От нее пахло яблоками и немного жженой соломой.
Те, кто уже получил груз, выходили с красными лицами, расталкивая толпу гневными криками. Кто-то пихнул девчонку, она шепотом сказала: «Ай».
Наконец, подошла ее очередь. Очкарик медленно водил пальцем по бумагам, нашел ее внизу списка. Поднялся с места, неторопливо двинулся к стеллажам, долго искал коробки. Будто не слыша недовольного гула, он собрал из коробок замысловатую икебану и подтолкнул это хлипкое сооружение к окну. Дураку было понятно: коробки составлены так, что упадут сразу же, попробуй их взять. Очкарик всегда так делал, из подлости, что ли.
Она взяла, икебана рассыпалась. Невнятный гул обострился раздраженными окриками. Девчонка задерживала очередь. Она бросилась собирать коробки с пола. Один пакет в хрусткой кремовой бумаге упал мне под ноги, я поднял машинально.
– Эй, сто пятая! – заскрипел Очкарик. Девчонка обернулась, он протянул ей сверток, свалившийся за конторку, и добавил поучительно. – Впредь бери корзину, если руки не из того места растут.
Она загрузилась по самый нос, стараясь не встречаться ни с кем взглядами. Уши у нее пылали, уже совсем не похожие на трепетные светло-розовые лепестки.
Я получил свой наряд. В этот раз коробок оказалось немного, одну Очкарик поставил сверху и заявил, что там – что-то живое, поэтому я «отвечаю собственной шкурой».
Было бы наслаждением вырваться из конторы на улицу, если б улица не плавилась от жары, будто старая покрышка в костре. Небо в этом районе низко перерезали провода, и ни одного облачка.
Девчонка стояла у трехколесного велосипеда с блестящими на солнце хромированными корзинками. Мелкие пакеты она уложила вперед, большие коробки пристраивала между двух довольно уродливых колес, подвязывая для надежности истрепанными коричневыми ремнями. Девчоночья логика.
– Ты новенькая? – спросил я, так просто, из интереса.
Она подняла лицо, все в веснушках. Ни разу не видел столько веснушек. Они сливались в какие-то архипелаги и образовывали материки. Удивительное лицо.
– Заметно? – спросила девчонка, чуть с вызовом.
Я представил, как она начищала свой велосипед, готовясь выйти в первый день на работу. Стало ее жалко.
– Ты бы не торопилась, – сказал я, стараясь не уподобляться поучительному тону Очкарика. По-дружески говорил: хочешь – делай, не хочешь – как хочешь. – Лучше сложить коробки по маршруту.
Она посмотрела на меня с досадой, дунула на мокрую прядь волос. Вообще-то, это все должен был объяснить ей Очкарик, но в конторе не было ни одного человека, кому бы он что-то когда-то объяснял. На любой вопрос он тыкал суставчатым пальцем в инструкции на стекле.
– Смотри, – сказал я. – Берешь свою карту… ну, список адресов. Мы это картой называем.
– Знаю, – откликнулась она, нетерпеливо подергивая ремень на корзине.
– Строишь в голове маршрут, чтобы не как испуганная летучая мышь по городу носиться. Вот, у тебя две улицы друг за другом идут, потом – назад, огромный крюк. Пока ты кружить будешь, полдня пройдет. Лучше сначала заехать на «Орбиту», потом свернуть сразу за светофором, срезать можно по дворам, запомнила? – я чертил ногтем невидимый маршрут. – На аллею не сворачивай, там все перерыто. Объедешь по Заречной. Сиреневый бульвар – это новостройки у оврага. Никакой там сирени нет, кстати. Зато есть черемуха, очень сладкая.
Она чуть улыбнулась, на щеке появился еще один архипелаг из веснушек.
– С дальними адресами укладываешь вниз и назад, с ближними – наверх. Если у тебя что-то хрупкое – посуда там…
– Нет, у меня нет.
– Я так, на будущее. Если хрупкое – на самый верх, а лучше, как туземцы – на голову.
– Ка-ак?
– Шучу. Ты когда-нибудь видела курьера с коробкой на черепушке?
Она неуверенно пожала плечами.