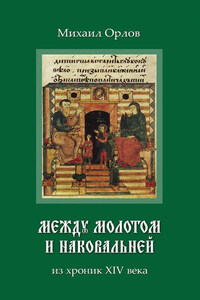Шел второй век малого ледникового периода. С климатом творилось что-то неладное, зерно часто не вызревало, и люди отчаянно боролись за свое выживание. Крестьяне жили впроголодь и влачили жалкое полунищее существование, чего нельзя сказать о сеньорах. Над Европой витал страх перед нашествием диких племен, страшными эпидемиями и собственными властями. Впрочем, трудно сказать, когда легко жилось простолюдину и могло ли вообще настать такое время. Не люди, от которых ничего не зависело, а климат и природные катаклизмы вершили историю Земли.
Католический мир состоял из множества феодальных государств, его карта напоминала разноцветное лоскутное одеяло. Языковой и этнический состав этих владений выглядел более чем пестро. Во Франции люди разговаривали на тридцати трех диалектах, похожая ситуация сложилась на территориях Германии и Италии.
Англия с Францией только что вышли из кровавой Столетней войны[2], а на Босфоре, не выдержав страшного натиска турок-осман, пал Константинополь – Новый Рим. Это повергло Запад в смятение. Тысячелетняя империя, к существованию которой все привыкли, как к чередованию восходов и закатов, рухнула. Мир менялся на глазах, все это видели, но не понимали, почему такое происходит. Неужто и вправду грядет конец света?
Самым великолепным в католической Европе все признавали Бургундский двор. Там в садах Дижона[3] кружили не стрекозы и мотыльки, а амуры, осыпая встречных стрелами, отравленными ядом любви. Дух двусмысленной недосказанности и куртуазности царил в усадьбах помещиков, городских особняках и замках знати. Еще более, чем прежде, расцвел культ Прекрасной Дамы, поднявший женщин из высших слоев общества на невиданную высоту.
Эталоном красоты считались хрупкость и матово-белый оттенок кожи. Число самоубийств на почве неразделенных чувств росло. Ради любви не жалели ничего даже самой жизни.
Дамы удлинили шлейфы платьев, хотя еще проповедник Этьен де Бурбон[4] предупреждал о том, что невидимые людьми демоны, раскачиваются на них, словно на качелях.
Дабы соответствовать вкусам времени, сеньоры начали брить щеки и подбородки. Для этого требовался навык, а они лучше владели мечом, нежели помазком и бритвой. Цехам цирюльников прибавилось работенки, чему те были только рады. Впрочем, кроме ухода за лицом клиентов цирюльники занимались хирургией, а по мере сил предоставляли и стоматологические услуги.
Духовенство утверждало, что именно прародительница Ева, подученная Дьяволом, соблазнила Адама, а посему слабый пол более всего предрасположен к связи с Нечистым, тут уж от идеализма легко перейти к садизму. По всей Европе началась охота на ведьм.
Эталоном поэтического вкуса все единодушно признавали Данте Алигьери с Франческо Петраркой. Юноши, мечтавшие о литературной славе, пытались подражать своим кумирам. Латынь все более уступала свои позиции грубым наречиям простонародья, хотя в университетах еще долго преподавали на ней. Кто желал познать тайны мира, должен был постигнуть и речь древних римлян. Конечно, то был не изысканный язык Овидия, а всего лишь церковная латынь.
Внутри городских стен шло бурное строительство ратуш, особняков знати, крытых рынков и отелей. В архитектуре царствовала поздняя готика с ее сложнейшими формами. За остроконечные арки проемов, напоминавшие языки огня, такой стиль нарекли «пламенеющей готикой».
На Апеннинах все сильнее разгоралось Возрождение, но в остальной Европе царствовало средневековье, озаряемое редкими всполохами зарниц. Влияние Италии к северу от Альп почти не чувствовалось. Оно началось позже – с появлением Рафаэля Санти и Микеланджело Буонаротти, обласканных папами. До того образцами художественного вкуса считались работы фламандцев Яна ван Эйка и Рогира ван дер Вейдена.
Описания нравов, оставленные бытописателями той эпохи, противоречивы. Тем не менее, попытаемся разобрать их забытые письмена.
Ранний рассвет 5 июня 1455 года от рождества Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа выдался ветреным и промозглым. С Сены тянуло сыростью, и город, погруженный в грезы сновидений, дремал, закутавшись в плащ неги, сладострастия, а порой даже кошмаров.
В эту самую пору на улице Сен-Жак, что находилась на левом, южном берегу реки, недалеко от церкви Святого Бенедикта скрипнула дверь, из которой ужом выскользнул молодой человек, имевший степень лиценциата[5] и магистра искусств, – Франсуа Вийон. Кроме всех прочих недостатков, свойственных людям его возраста, он обладал загадочным даром стихосложения. Его баллады и сонеты с некоторых пор получили известность среди студенческой братии, одни ими восхищались, а других, наоборот, раздражала, даже злила их нелепость и парадоксальность. В них он называл себя школяром, хотя несколько продвинулся вверх по университетской лестнице. В последние годы, правда, он не слишком преуспевал в постижении наук, поскольку они перестали интересовать его и ему стало не до них. Зато он приобрел популярность и добился некоторых успехов на любовном поприще, но об этом позже…
Вернемся опять на улицу Сен-Жак, где дверь за Франсуа, как только он покинул дом, тут же захлопнулась, но за те мгновения, которые она оставалась приоткрыта, острый цепкий глаз мог разглядеть блондинку в тонкой голубой сорочке брабантского полотна. Лиценциат, обернувшись хотел что-то сказать даме на прощание, но между ними уже находилась закрытая и запертая на засов дверь.
Вздохнув, Франсуа пониже надвинул на глаза поношенную школярскую шляпу и направился прочь. Сделав несколько шагов, он резко обернулся, поскольку ему померещилось, что за ним следит чей-то цепкий колючий взгляд. Однако кто и зачем мог заниматься подобной ерундой на рассвете? Право, это довольно странно и непонятно, даже глупо. Не заметив ничего подозрительного, Франсуа плотнее запахнул плащ и на всякий случай инстинктивно прибавил шагу. Достигнув ближайшего переулка, он юркнул в него да и был таков.
Стоило Франсуа скрыться, как от портика церкви Святого Бенедикта отделилась тень и бесшумно поплыла по улице вслед за ним. Если бы рядом на обочине дремал бездомный или пьяница, настолько отяжелевший от выпитого, что принужден был прилечь, то они приняли бы тень за привидение, одно из тех, о которых порой судачили продавцы и покупатели на многочисленных городских рынках и в торговых лавках.
Поравнявшись с домом, покинутым Франсуа, тень замерла, чуть слышно выругалась по-латыни и, непроизвольно сплюнув, поспешила дальше. Достигнув угла, за которым скрылся лиценциат, она осторожно заглянула за него, но, никого не заметив, встревожилась и, подобрав полы длинной одежды, напоминавшей рясу, так припустила по переулку, что только подошвы зашелестели по мостовой. Так носятся только сорванцы лет десяти-двенадцати, не ведающие ни удержу, ни усталости. Достигнув следующего перекрестка и тяжело дыша, неизвестный выскочил на пересечение улиц, но и там никого не оказалось. Ничего не оставалось, как только выругаться, но на сей раз без затей, на грубом нормандском диалекте.