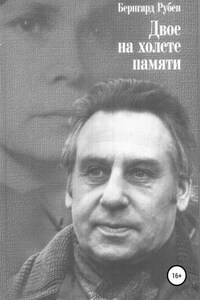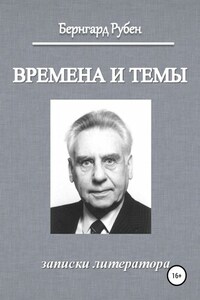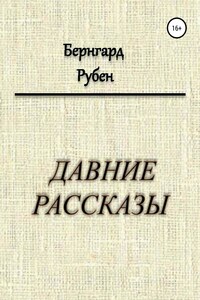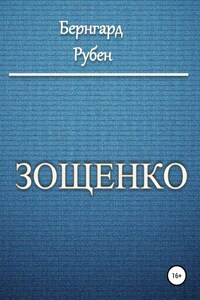Похороны Дуни прошли у Кортина на том же перенапряжении, с которым он действовал весь этот последний год ее жизни. Год начался новой вспышкой болезни, приведшей ранней весной к третьей операции, продолжился затем одним курсом химиотерапии, летом другим, а закончился последними месяцами борьбы осенью и зимой, когда он с одержимостью веры и непризнания какой-либо силы сверх его воли и надежды бился спасти ее, вынести из этого смыкавшегося смертного кольца до того, как оно сцепится своими концами-захватами. И когда все усилия оборвались смертью, его пронзило самообвинение: не успел, не сумел, упустил. Сам упустил последний шанс, уже имея в руках спасительное средство.
После поминок он отправился к себе домой, оставив в квартире Дуни немногих ее родственников, прилетевших на похороны из дальних мест, – вдову недавно умершего брата, который был на шесть лет младше Дуни и за судьбу которого она переживала всю жизнь, и самого младшего брата по второму позднему отцовскому браку, молодого совсем человека. Прилетал также один из племянников, студент-медик, но уже улетел обратно в свой институт. А сам восьмидесятилетний Дунин отец не двинулся в эту скорбную дорогу. Что до московских родственников, то отношения с ними в последние годы у нее почти прервались, и никто из них на похоронах, как и в течение всей болезни, не появился.
Оказавшись один, Кортин почувствовал, что обессилен и опустошен. Последний долг был отдан, ничто больше не могло иметь существенного значения. Но дела и обязанности все еще тянулись за ним. Необходимо было распорядиться ее вещами, оделив прежде всего прибывших родственников, – он видел, что они, не говоря о том, ожидали такого полагавшегося распределения. Еще надлежало ему подготовиться к скорой сдаче ее квартиры, избегая угрожающих требований и предупреждений. И по этой причине также следовало побыстрее раскассировать ее имущество.
Имущество Дуни, кроме денежного пая в жилищном кооперативе, составляли только домашние вещи – недорогая мебель и посуда, скромный гардероб. Все это были нужные, в большинстве своем добротные, милые вещи, приобретавшиеся не с маху, на весьма небогатые средства, но непременно по вкусу, с прикидкой и выбором; многие из них служили ей долгий срок и сделались привычными спутниками ее жизни, приняв в себя облик самой хозяйки. Так что перебирание ее вещей было для Кортина мучительным. С него хватило одного вечера после поминок. Ноги больше не понесли его туда, он не мог видеть ни этих вещей без Дуни, ни ее родственников, ни выступать там обходительным хозяином и отстраненно подумал, что пусть родственники сами делают в квартире все, что им надобно.
Оставшись у себя дома, он схватился за продолжение своего дневника, записи в котором были прерваны похоронами. Он записал:
«21 декабря 1978 года, четверг, 9 утра, Сокольники.
Прошли уже и похороны, и началось какое-то пустое, смутное и постыдное существование, постыдное оттого, что на этой земле мы живем в окружении вещей, которые нам нужны, приятны, удобны или просто необходимы, и людей, которых далеко не всегда мы выбираем сами, но вынуждены вступать с ними в те или иные отношения…
Восходит солнце, метет снег, мороз, и здешняя жизнь переваливается по земной поверхности, а Дуня лежит под землей, без неба, солнца, снега. Но это тело ее лежит там, а душа? Где она, и как теперь она обитает, в каком окружении, и каков у них т а м порядок? А во мне – безгласный крик, сплошная боль без явной физической боли, заполнившиепустоту в душе, и страшный в такую пору и совсем нефилософский вопрос – «Зачем все это?» Только одно дело кажется еще нужным и непременным – записать, все записать подробно и точно. В этих записях сходится для меня и прошлое, и нынешняя моя обязанность, и возможность будущего. Я понимал, что мне будет очень тяжело, но разве мы можем представить себе все то, что и как произойдет с нами?!
Буду писать по порядку, по совершившемуся…»
Когда-то, в молодости, задаваться таким вопросом – «Зачем все это?» – было ему интересно: отвлеченно-философская игра ума, обращенная к высшему Разуму, и ты ничего не проигрываешь, не получив точного ответа, поскольку твоя жизнь полна и увлекательна сама по себе. Но вот он лежал во прахе и беспощадно сознавал свое поражение, свою вину, и вопрос этот превращался в утверждение тщеты жизни, прежде всего его собственной со многими в ней ошибками и прегрешениями. И тем не менее, или именно потому, он упрямо стремился закрепить на бумаге все происшедшее.
Он исписал шесть страниц в толстой тетради с обложкой из коленкора, но никакого душевного облегчения этот выплеск ему не принес. Он вдруг с тревогой ощутил, что теряет в себе некую внутреннюю опору, незримую основу повседневной устойчивости в этом мире. И поспешно схватился что-то чинить, налаживать, убирать в своей квартире, запущенной за те несколько месяцев, что он почти не бывал здесь, – стараясь отвлечься физическим трудом так же, как к этому прибегала Дуня для обретения душевного равновесия. Но он не мог найти себе места. Его крутило все сильнее и сильнее. Он пробыл в таком состоянии весь день, ничего не ел, дома было пусто, только чаю он выпил с остатками хлеба. Под вечер, чтобы как-то разойтись, уйти от самого себя, он решил выглянуть на люди и поехал в Дом журналистов на проводившееся в этот вечер заседание секции, к которой был прикреплен. Впоследствии знакомая дама сказала ему, что вид у него тогда был безумный. А ему казалось, что держался он неплохо. Он даже зашел потом в здешний ресторан, выстояв порядочно времени у дверей в ожидании места, поел, наконец, чего-то вкусного и горячего, выпил немного коньяку, с кем-то вежливо переглянулся. И в то же время он отчетливо понимал, что все это у него лишь внешнее проявление жизни, лишь обозначение ее, что на самом деле он уже отделен от окружающих людей замкнувшим его, но невидимым для них колпаком, что он тяжело или, скорее всего, смертельно ранен, только никто этого не замечает, потому что нет крови и он держится на ногах.
Но ему пришлось тогда же вновь мобилизоваться. Пока он сидел в холодном кинозале, где проходило заседание секции, и слушал выступление популярного исторического писателя, а вслед за ним известного публициста, и озирался по сторонам, пытаясь определить – видят или не видят окружающие, что с ним творится, в Дунину квартиру вторглась дама-комендант тамошнего жилищного кооператива. Она взяла в оборот Дунину невестку, выясняя, кто, откуда и на каком основании здесь находится, после чего с тем же административным нахрапом объявила, что квартира умершей, где никто более не прописан, подлежит опечатанию, а все вещи должны быть перенесены в подвал. Перепуганная провинциальная родственница, в панике от столичных порядков, бросилась звонить Кортину, но дозвонилась только в полночь, когда он воротился из своего Домжура. Он живо представил себе всю эту сцену, успокоил ее, даже поиронизировал над ее растерянностью перед московским хамьем и велел без него вообще не пускать никого на порог, пообещав назавтра обязательно приехать. Допущенная наглость возмутила его.