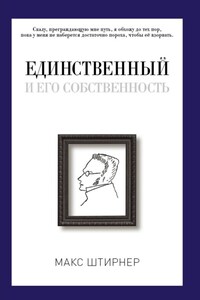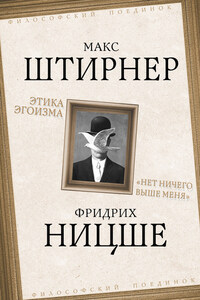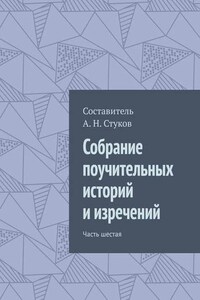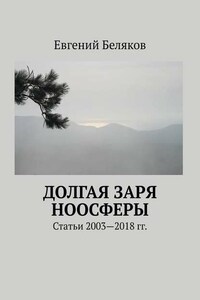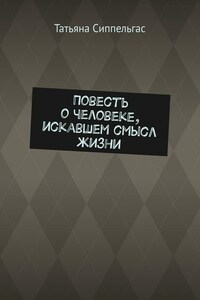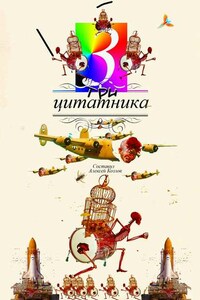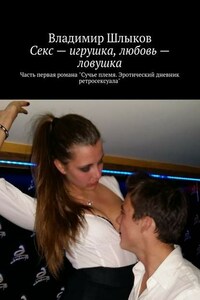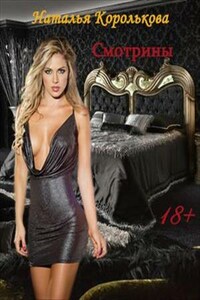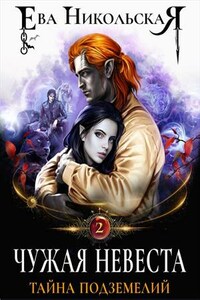Единственный и его автор: макс штирнер в истории философии
Дмитрий Хаустов
«Встал порог «узнай себя», это трудно, потому что человек завис между ничто и целым миром».
Владимир Бибихин

Одним из центральных сюжетов той современной философии, которую всё еще принято называть пост-современной, является критика субъективности.[1] Речь тут, конечно, не о субъекте вообще, а о том многогранном и неохватном дискурсивном движении в рамках европейской философии, которое – при очень существенных внутренних разногласиях – центрируется на том концепте преимущественно познающего субъекта, который отмечен именем Рене Декарта. И в той мере, в какой философия как таковая есть критика и прежде всего самокритика, эта критика субъективности начинается не с Фуко и не с Деррида, а сразу с Декарта – философский концепт начинает оспариваться не то что на выходе, а прямо на входе, в рамках рождающих его рассуждений, включаясь во внутреннюю диалектику всякого дискурса (который, более того, сам диалектика – как у Платона – и есть). Другой вопрос, что критика субъективности принимала различные формы и направления на разных этапах своего исторического существования. Возможно, пост-современность является ее пиком – той точкой, в которой осуществляется всё еще непрозрачный поворот к совсем иным проблемам и теоретическим конфигурациям. У этого пика есть свой исток, не равный общему – картезианскому – истоку так называемой философии (познающего) субъекта. Сами постмодернисты своего истока не таили – а если бы и таили, он всё равно был бы заметен, как шов, как несмываемое родимое пятно. Кризис философии субъекта начался не в середине XX века, но еще в середине XIX, когда на философскую сцену в Европе вышли фигуры философии подозрения (и подозрения, разумеется, к субъективности) – Маркс, Ницше, Фрейд, не всегда среди них поминаемый Кьеркегор. И почти никогда не упоминаемый Штирнер – что странно и даже печально, ведь порожденная им критика субъективности по своей радикальности перебивает всех вышеназванных – и, перебив, забегает вперед – туда, где от Сартра протянутся нити к различным пост-современным критикам субъекта и многого, многого прочего.
Причин, по которым Штирнера нет в пантеоне, немало. Он риторичен – даже на фоне Ницше, он саркастичен – и это в ущерб общепринятой строгости рассуждений, даже на фоне смешливого, часто сардонического Маркса. Он не включаем в движения, школы и коалиции – то есть он ускользает от классификации, этой дойной коровы историко-философского ремесла. Он, в общем-то, неудобен. Тем более интересно, что это его неудобство превращает «Единственного и его собственность» в ловко устроенную ловушку – чем проще от него отмахнуться, тем сложнее, рискнув с ним связаться, дать уверенную его критику или хотя бы интерпретацию, не споткнувшись на разных уловках лукавого автора. Афористический штамп Ницше – тот самый, про то, что не убивает, – подходит к Штирнеру еще лучше, нежели к самому Ницше. При этом понять, в чем сила Единственного, из XIX века непросто – нужно дождаться XX, с Хайдеггером и нигилизмом, с Кожевом и негативностью, с Батаем и тратой. История философии не любит таких резких бросков, поэтому Штирнер по-прежнему не ее vip-клиент. Тем лучше для Штирнера и для тех, кто захочет найти у него живую мысль – не сданную в долгий архив бессмысленного и беспощадного учебника.
* * *
Характеризуя своего героя, автор первой и наиболее известной биографии Штирнера Джон Генри Маккей не без выспренней патетики пишет так: «Теперь я знаю, что жизнь Штирнера вовсе не составляла контраста с его великим произведением, а напротив, была простым и ясным выражением его последнего учения, – необходимым его следствием, без всяких противоречий, внешних или внутренних… Это был – эгоист, знавший, что он был эгоистом!»[2] Впрочем, если иметь в виду само содержание книги-учения Штирнера, вообразить себе подобное тождество личности и идеи довольно трудно – ниже увидим, почему так. Что, напротив, можно охотно принять и о чем дальше пишет Маккей, так это представление о Штирнере как о человеке странном и загадочном, скрытном и молчаливом, чужом даже для тех немногих людей, которых можно с натяжкой назвать его близкими. История жизнь великого эгоиста, под стать его зацикленности на самом себе, бедна фактами, исполнена лакун. Но кое-что мы знаем точно.
Штирнер – тогда еще под своим настоящим именем Иоганн Каспар Шмидт (1806–1856) – учился, помимо прочего, на философском факультете Берлинского университета, где слушал звезд своего времени – Шлейермахера и, что важнее, самого Гегеля, которому недолго оставалось до смерти. Философия Гегеля – безусловно, главная философия эпохи, Философия как таковая, как когда-то Философом как таковым был Аристотель – дала Штирнеру ту теоретическую базу, от которой он и будет отталкиваться, яро и порой скандально, в своих эскападах, при этом под рубрику «философия Гегеля» или, шире, «гегельянство» нужно подвести и отчасти критическую, отчасти лояльную к Гегелю философию Людвига Фейербаха, философа, который первым задал монументально неповоротливому, как многим казалось и кажется, гегельянству новое – условно, антропологическое – направление. Отсюда Штирнер и ряд его условных единомышленников, часто именуемых младогегельянцами, следуют, строго говоря, не за Гегелем, но за Фейербахом – мыслителем, попытавшимся отойти от безличного (или сверхличного) Духа к конкретному (как скоро выяснилось, недостаточно конкретному) человечеству, Человеку.
Собственно, Штирнер с (опять же, условными) единомышленниками – это кружок хорошо образованных и, как сейчас говорят, политизированных молодых людей, собиравшихся в одном берлинском кабаке и самих себя называвших «вольницей», die Freien. Лидером и заводилой был Бруно Бауэр – фигура ныне не очень известная, но значимая в контексте истории младогегельянского движения, насколько корректно здесь говорить о едином движении. Его труд 1841 года «Трубный глас страшного суда над Гегелем» в существенной мере задает тон эпохе – тон ироничный и саркастический, желчный, критический, тон, который впоследствии на все лады отзовется у Штирнера, Маркса, спустя поколение и у Ницше (который, правда, апеллирует не к Бауэру и не к Штирнеру, но к Давиду Штраусу, не далеко от них отстоящему). Что же касается самого Маркса и его чуть менее заметного, зато верного друга Энгельса, то и они одно время были близки к вольнице, однако недолго – по нарождающейся привычке будущих классиков коммунизма, резко порвав отношения со вчерашними товарищами, они тут же обрушили на последних – и прежде всего на их лидера Бауэра – критику, полную бауэровской же развеселой желчи (отсылаю к работе «Святое семейство»). Досталось и Штирнеру, но он таки опередил обидчиков.