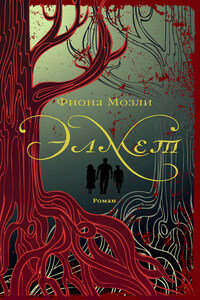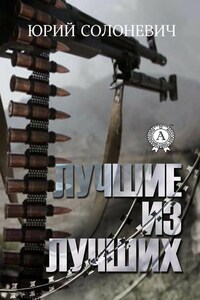Я не отбрасываю тени. Облако дыма висит позади, приглушая солнечный свет. Я считаю шпалы и сбиваюсь со счета. Начинаю считать рельсовые стыки. Я иду на север. Два моих первых шага были медленными и неуверенными. Я сомневался, выбирая направление, но сейчас, когда выбор сделан, остается только идти вперед. Это чем-то сродни турникету с односторонним проходом.
Я все еще чувствую запах гари. Вижу обугленный остов дома. Вновь слышу эти голоса: несколько мужских и один женский. Ярость. Страх. Решимость. Затем гибельная дрожь деревянных перекрытий. И языки пламени. Порыв жаркого, сухого воздуха. Моя сестра с кровавыми потеками на коже, а потом всему этому конец.
Продолжаю идти вдоль путей. Заслышав отдаленный шум поезда, ныряю за куст боярышника. На сей раз это не пассажирский, а товарняк. Глухие стальные вагоны украшены аляповатыми эмблемами: геральдика их юности, оставшейся в давнем прошлом. А поверх этого – ржавчина, грязь и многолетние наслоения смога.
Накрапывает дождь, потом он прекращается. Ветви кустов отяжелели от влаги. Сырая трава поскрипывает под ботинками. Мышцы начинают болеть, но я не обращаю внимания. Я бегу. Я иду. Снова бегу. Еле волочу ноги. Делаю передышки. Пью дождевую воду из углублений в бетоне. Поднимаюсь. Иду дальше.
Меня терзают сомнения. Если она, дойдя до железной дороги, свернула на юг, то шансов у меня нет. Тогда ее уже не найти. Тогда я могу сколько угодно шагать, бежать трусцой или нестись во всю прыть, а могу и остановиться, лечь поперек пути и ждать, когда меня разрежут колеса очередного поезда: разницы никакой. Если она свернула на юг, она для меня потеряна.
Но я выбрал север и следую в этом направлении.
Я не признаю ограничений и запретов. Я нарушаю границы частных владений. Я преодолеваю заборы из колючей проволоки и запертые ворота. Я прохожу через промышленные зоны и через садовые участки. Для меня не существуют пределы графств, городов и сельских приходов. Я иду напрямик через пашню, пастбища или парки.
Рельсы ведут меня между холмами. Поезда катят вдоль склонов, ниже вершин, но и не по самому дну расселин. Я устраиваюсь ночевать на краю мохового болота, наблюдаю за ветром, за воронами, за далекими автомобилями на шоссе; вспоминаю эти же края, только южнее, только раньше, в другое время; затем наплывают воспоминания о доме, о семье, о прихотях судьбы, о началах и концах, о причинах и следствиях.
Поутру я продолжаю свой путь. Под моими ногами – остатки Элмета.
Мы приехали сюда в начале лета, когда вся округа пышно зеленела, дни были длинными и жаркими, а солнечный свет зачастую смягчался облачной пеленой. Я разгуливал без рубашки (к чему пропитывать ее потом?) и нежился в объятиях густого воздуха. В те месяцы мои костлявые плечи покрылись россыпью веснушек. Солнце садилось медленно; по вечерам небо приобретало оловянный оттенок, а после недолгой ночной тьмы уже вновь пробивался рассвет. Кролики вовсю резвились в полях, а при некотором везении, в безветренный день с легкой дымкой на склонах холмов, нам случалось увидеть и зайца.
Фермеры отстреливали хищников и вредителей, а мы ловили силками кроликов для рагу. Но только не зайца. Моего зайца. Точнее говоря, зайчиху, которая обитала со своим выводком в гнезде где-то под железнодорожной насыпью, давно притерпевшись к периодическому грохоту составов. Я никогда не видел ее вместе с зайчатами; всякий раз она тихо и незаметно покидала гнездо в одиночку. Такое поведение – надолго оставлять потомство и носиться туда-сюда по полям – было нехарактерно для ее сородичей в этот период лета. Она все время что-то искала: еду или, может, самца. Причем стиль этого поиска больше напоминал охоту, как будто зайчиха однажды по здравом размышлении отказалась от привычной роли жертвы и решила перейти в разряд преследователей. Для наглядности вообразите гонимого лисой зайца, который вдруг, резко остановившись, разворачивается, и далее погоня идет уже в обратном порядке.
Как бы то ни было, эта зайчиха отличалась от всех прочих. Когда она пускалась во всю прыть, я с трудом улавливал ее взглядом, а когда замирала на месте, то в эти мгновения она была самым неподвижным объектом из всех на многие-многие мили вокруг. Неподвижнее дубов и сосен. Неподвижнее скал и столбов. Неподвижнее рельсов и шпал. Казалось, она вдруг завладевала окружающей местностью и пришпиливала ее собою прямо в центре, так что даже самые спокойные, самые статичные объекты непостижимым образом начинали вращаться вокруг нее, затягиваемые, как водоворотом, ее громадным круглым янтарным глазом.
Если зайчиха казалась целиком сотканной из мифов, то таковой была и земля под ее ногами. Все это графство, ныне реденько утыканное рощами, некогда считалось дремучим лесным краем; и по сей день в ветреную погоду еще можно почувствовать призрачное присутствие той реликтовой чащи. Почва жила бесчисленными историями, что расцветали, чахли и перегнивали, чтобы затем вновь пустить корни, пробиться через подлесок и сделаться частью нашей жизни. Предания о следящих за путниками «зеленых человечках» с листвяным лицом и кривыми сучковатыми ногами. Сиплый лай вошедших в раж гончих, в последнем рывке настигающих добычу. Робин Гуд и его шайка отморозков с их лихими пересвистами, борцовскими состязаниями и буйными попойками – вольные как птицы, чьи перья они носили на своих шляпах. В старину лес широкой полосой тянулся с севера на юг. Здесь водились кабаны, медведи и волки. Лани, косули, олени. Мили грибницы под землей. Подснежники, колокольчики, примулы. Но вековые деревья уже давно уступили место пашням, лугам, зданиям, шоссейным и железным дорогам, так что от прежнего леса лишь местами сохранились рощи вроде нашей.
Папа, Кэти и я обитали в доме, сооруженном Папой из материалов, какие удалось раздобыть поблизости. Он выбрал для жилища эту ясеневую рощу из-за ее местоположения: через два поля от железнодорожной магистрали, идущей вдоль восточного побережья, – достаточно далеко, чтобы оставаться незамеченными, но и достаточно близко, чтобы слышать и различать поезда. А слышали мы их часто: звонкий гул пассажирских экспрессов и одышливое пыхтение товарняков, скрывавших свои грузы за стенками размалеванных стальных вагонов. У них были четкие расписания и интервалы, и наш дом, как дерево годовыми кольцами, обрастал их регулярной циркуляцией и перезвоном колес, подобным «музыке ветра». Длинные, цвета индиго «Аделанте» и «Пендолино»