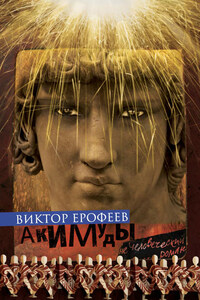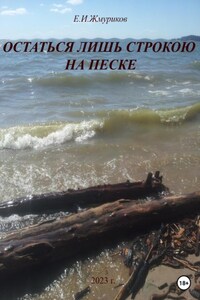Бляха
Телохранители искоса смотрели телевизор. Я пил в компании людей, которым хорошо знакома криминальная обстановка в городе. Несмотря на интеллигентный экстерьер, я готов перепить самых крепких мужиков, и три-четыре бутылки водки за вечер не производят на меня особого воздействия, разве что утром немного чешется кожа на животе. Такая особенность не раз выручала меня, но иногда приводила к непредсказуемым последствиям, что, собственно, и случилось в ту ночь.
Человек во власти сияет нездешним светом. Его влиятельное лицо охвачено всполохами затяжного экстаза. В зале резало глаза от начальства. Перепившееся руководство силовых структур, вице-премьеры, вожди и гонители демократии, государственники, главные придурки, реваншисты и прочие кремлевские красавцы гудели.
– У меня бляха лучше твоей! – раздавались голоса.
Каждый мечтал о бляхе.
– Твоя бляха – вообще не бляха.
– Я получал в месяц по четыре бляхи.
– Когда это было!
– А у меня платиновая бляха, – сказал кто-то.
Все замолчали. А я спросил:
– Вы какую бляху имеете в виду?
Они покатились со смеху.
– У тебя что, вообще нет бляхи?
– Да нет у меня никакой бляхи! – обозлился я.
Под утро им всем захотелось вместе полететь в космос. «Летите, голуби», – подумал я. Они мне тоже предложили лететь, в качестве хроникера, были и другие, не менее достойные предложения. Кончилось тем, что один из них – кажется, самый толковый и что-то даже смыслящий в литературе – завел со мной разговор о тайной стороне родной жизни.
– Я тебя читал, и ты мне не нравишься, – начал он с нормальной предутренней откровенностью, со сбившимся галстуком на белой правительственной сорочке. – Но я тебе вот что скажу: это заколдованная страна.
Я понимающе хмыкнул.
– Бермудский треугольник в подметки не годится. Тут круче. Никакие реформы у нас не пройдут, – заверил меня ведущий реформатор.
Я молча верил ему на слово.
– Была мысль найти объединяющую идею. Нашлись только разъединяющие. – Он огляделся по сторонам. – Старикмешает.
– Найдите лучше, – сказал я.
– Я не об этом, – скорчился реформатор и даже сделал движение, чтобы уйти непонятым, но вместо того воскликнул:
– Пал Палыч!
Подошел какой-то пьяный Пал Палыч. По виду – силовик. С болтающейся от горьких раздумий челюстью. В штатском.
– Скажи ему про старика. Он не верит.
Силовик испуганно посмотрел на начальство.
– Ну, говори, раз начал, – твердо сказал реформатор.
– Мы называем это передвижной черной дырой, – поежился силовик. – Или воронкой. Короче, хренотень.
– Закон исчезновения энергии, – пояснил реформатор.
Я радостно приветствую разговоры о всякой нечисти, но только не от пьяной власти.
– Метафоры, – подсказал я.
– Встреться с ним, – предложил реформатор.
– С кем?
– Со стариком. Пал Палыч организует.
– Засасывает, – скислился Пал Палыч, показывая плохие зубы вперемежку с золотыми. – Хуже тарелки.
– Я не работаю на правительство, – примирительно предупредил я.
– Личная просьба, – подчеркнул реформатор.
Призрак русской свиньи
Бывает, сидишь на балконе, пьешь чай, ведешь беседу с друзьями, спокойно, весело на душе, ничто не предвещает беды, как вдруг потемнеет в глазах, почернеет в природе, поднимутся враждебные вихри, послышится топот, в секунду все сметено, все в миг окровавится. Нет больше тебе ни чая, ни грез, ни друзей. За чаем выстраиваются километровые очереди, балкон обвалился, друзья обосрались от ужаса жизни.
И думаешь посреди всего этого великолепия:
– Спасибо, Боже, за науку, спасибо за испытания.
Враг народа
Наутро проснулся, как от толчка, с отчетливым чувством: я – враг народа. Лампа подозрительно качалась под потолком. Я подумал: все-таки перепил. От возбуждения при встрече с властью. Мы все только делаем вид, что власть нас не волнует. Обеспокоенный, спрыгнул с кровати к зеркальному шкафу, ударил заспанное лицо по щекам. Из зеркала на меня хмуро глянула неумытая морда врага народа.
«Ну, все! – решил я. – Это полный пиздец или полный вперед!»
Я и раньше, если по-честному, не был народным братом-сватом, не рыдал от сознания принадлежности. Мне знакомы минуты недоверчивого принюхивания к народу, даже приступы тошноты. Но я с этим справлялся и жил дальше, как все, с тупой надеждой на что-то.
Теперь все сделалось по-другому. Я снова лег, заснул в тоске, спал долго, без снов, проснулся в полдень: опять – враг народа. Но не в том дедовском смысле, будто я – контра. Или: меня оклеветали. Я никогда не верил в невинность жертв: человек вечно чем-нибудь недоволен, и это всплывает. Но я ощутил всем своим существом, что я не объявленный, а сам собой объявившийся враг народа; такое необратимо.
Что это за состояние? Я бы не взялся описать его досконально. Оно только-только вошло в меня и заполнило. Его не обозначишь пламенной ненавистью, когда хочется орать и все перечеркивать. Бешенство – расхожее объяснение в чувствах. Казни – это вообще love story. Здесь же было, как после бури. Осенний ветер ласково теребил занавески. В наступившей прохладности ощущений крепло презрение. Неторопливое, неогненное чувство.
Мне хотелось задавить его спортом и равнодушием. Я сел в машину, чтобы побегать на Воробьевых горах свои положенные сорок минут. Бежал трусцой и думал: смирись. Смирись: вот гроздья рябины. Река, баржа, трибуны, колокольня – смирись. Меня обдали потом немолодые офицеры, сдававшие рутинный зачет на выносливость – зажми нос и смирись. Возле их финиша ко мне метнулась штабная крыса с криком:
– Опять ты последний!
– Хуже, чем последний! – сказал я полковнику, сходя с дистанции.
Я – враг народа. Чувство не из приятных, нечем гордиться. В состав презрения входит, скорее, не высокомерие, а безнадежность. Размышляя, я пришел к выводу, что у меня даже нет информационного повода. Вчера, на прошлой неделе русские не сделали ничего чрезвычайного. Не выплыли (хотя руки чесались) на середину реки на «Авроре», не перерезали (хотя могли) младенцев. Жили как жили, пили пиво, но я уже с этим не мог смириться.