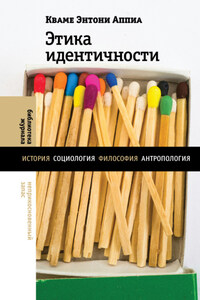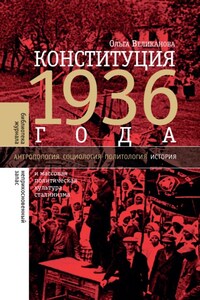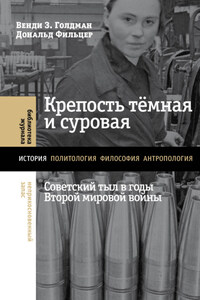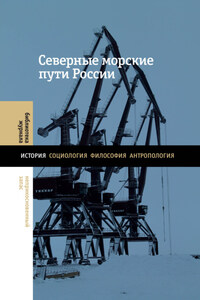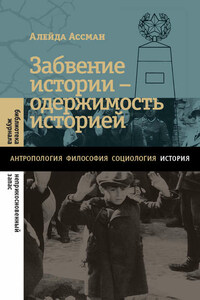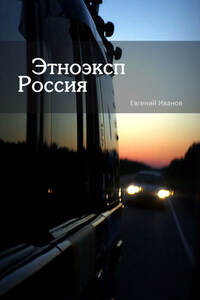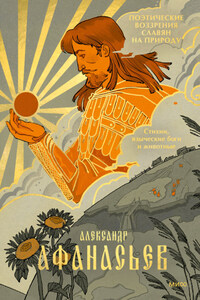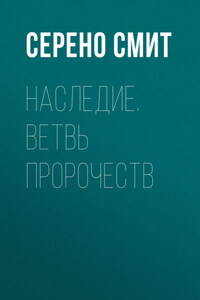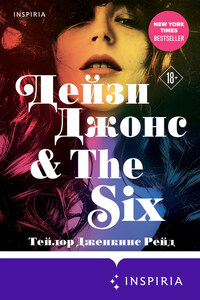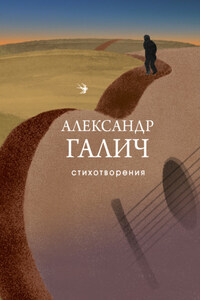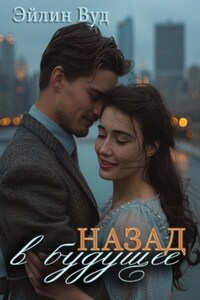УДК 316.347
ББК 60.545
А76
Редактор серии А. Куманьков
Перевод с английского Д. Турко
Кваме Энтони Аппиа
Этика идентичности / Кваме Энтони Аппиа. – М.: Новое литературное обозрение, 2024. – (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»).
Раса, этническая принадлежность, национальность, религия, пол – в последние десятилетия таким коллективным идентичностям уделяется все больше внимания. Они требуют признания и уважения, что часто приводит к конфликту с ценностями либерализма и индивидуализма. В какой степени идентичности определяют и ограничивают нашу свободу? Как они способствуют проявлению и выстраиванию нашей индивидуальности? Является ли разнообразие ценным само по себе? Философ и африканист Кваме Энтони Аппиа обобщает интеллектуальный опыт мыслителей разных эпох и культур в поисках ответов на эти вопросы. Автор фокусируется на отношениях между идентичностью и индивидуальностью, между моральными обязательствами по отношению к себе и коллективной ответственностью. Результатом его исследования становится новое видение гуманизма, согласно которому разнообразие, свойственное людям, не препятствует конструктивному диалогу, а наоборот – делает его интересным и осмысленным. Кваме Энтони Аппиа – философ, профессор Нью-Йоркского университета.
Фото на обложке: Georg Eierman on Unsplash.com
ISBN 978-5-4448-2409-2
Copyright © 2005 by Princeton University Press
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher.
© Д. Турко, перевод с английского, 2024
© Ю. Васильков, дизайн обложки, 2024
© ООО «Новое литературное обозрение», 2024
В современной англоязычной философии существует широкий консенсус по поводу общих черт и истории либеральной политической традиции. Например, принято думать, что эта традиция многим обязана предпринятой Локком защите религиозной терпимости – и обязана не меньше, чем его же защите права частной собственности. Считается также, что язык равенства и прав человека, разработанный в ходе Французской и Американской революций, занимает в либеральном наследии центральное место и что для либерала естественно рассуждать о человеческом достоинстве и полагать, что им (как водится, при прочих равных) обладает каждый человек. Таким же образом постоянно считают само собой разумеющимся, что либеральная традиция – традиция этического индивидуализма, – в том смысле, что для нее моральной значимостью обладает только то, что значимо для индивидов; поэтому если нации, религиозные общины или семьи важны, они важны лишь постольку, поскольку влияют на образующих эти группы индивидов2. Мы привыкли, что перечисленные центральные элементы либеральной традиции окружены спорами. Поэтому либералы – это, грубо говоря, не те, кто достиг согласия между собой относительно смысла достоинства, свободы, равенства, индивидуальности, терпимости и прочего; скорее либералы – это те, кто спорит о значении всех этих вещей для политической жизни. То есть мы привыкли думать, что либеральная традиция, как и все интеллектуальные традиции, – не столько фиксированное учение, сколько набор дискуссий. Несмотря на все это, ни у кого не вызывает сомнения, что либеральная традиция существует.
Представляет интерес вопрос, можем ли мы в действительности обнаружить интеллектуальную традицию, которая бы включала все перечисленные элементы. Конечно же, ответ на этот вопрос потребует серьезного исторического исследования. Подозреваю, что если вы отважитесь на такое исследование, то идеи интеллектуальных предтеч Милля, Хобхауса, Берлина и Ролза окажутся скорее разнородными, чем единообразными и что называемое ныне либеральной традицией будет выглядеть не столько цельным корпусом идей, постепенно разработанным на протяжении ее существования, сколько набором источников и прочтений этих источников, которые теперь, в ретроспективе, кажутся нам удачно излагающими одну политико-философскую теорию (и снова пример того, как сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек!). Еще одно – быть может, незначительное, но впечатлившее меня – соображение в пользу идеи, что либерализм представляет собой ретроспективное изделие – то, что слово «либерализм» для обозначения политического кредо стали использовать только в XIX веке. Слово это невозможно найти в работах Локка или американских отцов-основателей, хотя без этих работ, как принято считать, история либерализма была бы чрезвычайно скудной3.
Так, можно попытаться подойти к проблеме не с кабинетной, а с деловой стороны и отождествить либерализм не с интеллектуальной, а с практической традицией, указав на выработку за последние несколько столетий, особенно после Американской и Французской революций, новой формы политической жизни. Форма эта выражается в определенных политических институтах, таких как наличие избираемых, а не наследственных правителей и, шире, некая опора власти на согласие управляемых. Но в числе этих институтов есть и ограничение власти правителей, даже таких, которые правят от имени большинства. Ограничение это существует благодаря правовой системе, гарантирующей определенные фундаментальные права. Эти гражданские или политические права обеспечивают гражданам соответствующие каждому праву сферы свободы, включая свободу политического выражения и свободу вероисповедания. Разумеется, любой из этих элементов встречается в истории и по отдельности: республиканское правление началось с Древних Афин, первых императоров Священной Римской империи избирали4, а свобода прессы и религиозная терпимость развились в Англии под сенью монархии. В таком случае либерализм родился как сочетание политических институтов: конституций, прав, выборов и гарантии частной собственности. В XX веке как в Европе, так и в Северной Америке к ним добавилось требование обеспечить каждому гражданину минимальный уровень благосостояния.
Несмотря на это, разговор о практиках не спасет нас от парадоксов теории, и попытка провести черту между одним и другим нам не сильно поможет, ведь политические теории не похожи на теории небесной механики: в политической сфере теории имеют обыкновение становиться частью того, о чем в них говорится. Если существует либеральная форма жизни, к ней всегда относились не только институты, но и риторика, корпус идей и аргументов. Когда граждане американских колоний заявили о «самоочевидной» истине, что у них есть неотчуждаемые права на жизнь, свободу и стремление к счастью, они стремились