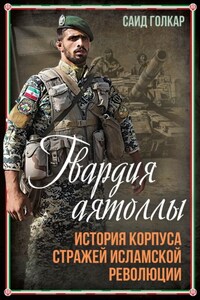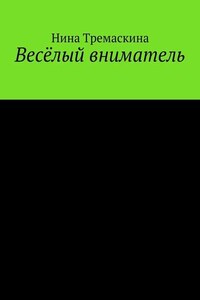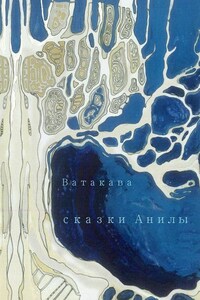Хитрость писательства, как, впрочем, и любой другой творческой профессии, состоит в том, что, помимо занятий искусством, вам также нужно зарабатывать на жизнь. Мои рассказы и романы неизменно придавали моей жизни значение, однако по меньшей мере в первые десять лет карьеры они приносили не больше прибыли, чем моя собака. Впрочем, отчасти за это я и люблю романы и собак: они очаровательно безразличны к любым финансовым трудностям. Мы заботимся о них, а они в ответ хорошеют. Откуда берутся деньги на оплату квартиры, не имеет к ним ни малейшего отношения.
Когда я искала работу, мои запросы были очень просты: что-то, что позволило бы мне платить по счетам и при этом оставило время для писательства. Поначалу мне казалось, что главное – переложить ношу с головы на плечи, поэтому я работала поваром, позже – официанткой. И была права: моя голова была свободна для историй, но, поскольку я проваливалась в сон, стоило мне перестать двигаться, большинство из этих историй так и не были записаны. Как только я поняла, что физические нагрузки – не вариант, переключилась на преподавание – универсальную карьеру для любого человека с дипломом писателя. И хотя уставала я меньше, дни, посвященные творчеству других, лишали меня интереса к собственному творчеству. По моему мнению, сфера питания и преподавание были единственными работами, на которые я способна, и как только я обнаружила, что ни то ни другое мне не подходит, растерялась. Могу ли я, следуя примеру Уоллеса Стивенса, всю жизнь продавать страховки? Единственное, в чем я была уверена: мне необходимо выяснить, как писать и при этом не умереть с голоду.
Ответом или, во всяком случае, его первым проблеском стала короткая – 250 слов – рецензия на книгу Эми Тан «Клуб радости и удачи». Несколько моих рассказов вышли в журнале «Севентин[1]», и я спросила моего редактора Эдриан Николь Ле Блан – нам обеим тогда было по двадцать пять, – могу ли я писать и как журналист. Расчеты очень простые: в «Севентин» публиковали по одному рассказу в месяц, то есть двенадцать в год, и при абсолютном везении я не могу рассчитывать больше чем на два из этих номеров. Журналист, в свою очередь, может писать по статье в каждый номер, иногда и по нескольку. Наконец-то я нашла работу, которую более-менее умела делать и при этом не находила ее ни физически, ни эмоционально утомительной.
Что вовсе не означает, будто все шло гладко. Ту рецензию я была вынуждена переписывать раз шесть, и каждый раз меня просили рассмотреть еще какой-нибудь аспект романа. Эти нововведения никак не влияли на количество слов, и, если я что-то добавляла, приходилось что-то и убирать. Поэтому я резала и сплющивала, находила одно слово, передававшее смысл пяти. Умещала рассуждения о взаимоотношениях матерей-дочерей на булавочной головке. Когда мою рецензию приняли, я начала забрасывать Эдриан идеями для статей, лучшие она показывала своей начальнице, Робби Майерс. В отличие от прозы, где я гордилась своим умением сочинять, я обнаружила, что эти статьи нуждаются в личном опыте. Из десяти заявок, которые я приносила, – «Детство среди лошадей», или «Когда твой лучший друг – парень», или «Как украсить школьный шкафчик» – зеленый свет давали одной (без договора или платы за неиспользованный материал), и из десяти, которые одобряли, лишь одна добиралась до журнальной страницы. Ту, что в итоге принимали, я впоследствии переписывала еще с десяток раз, поскольку получала целые стопки замечаний, и не только от Эдриан и Робби, но от редакторов из других отделов и всех их стажеров, оттачивавших свои редакторские навыки. Посыл этих карандашных пометок чаще всего сводился к одной фразе: «Когда мне было пятнадцать, я относился к этому совершенно иначе». И хотя меня так и подмывало ответить: «Ты что, вырос в Теннесси?», «Посещал католическую школу для девочек?», «А ты – проводила каждые выходные с родителями, не имея даже возможности сходить на свидание?», – я молчала. Если они хотели увидеть в моей заметке собственные отражения, я им это устрою. Отыщу способ вклинить каждого из них, оставаясь в пределах отведенного количества слов.
Журнал «Севентин», где у меня не было своего рабочего стола, да и заходила я туда нечасто, стал для меня школой молодого бойца. Я научилась там писать эссе, как научилась писать прозу в колледже Сары Лоуренс и Писательской мастерской при Университете Айовы. И в то время как художественная литература безраздельно принадлежала мне – я бы никогда не изменила рассказ, чтобы отразить опыт редактора, – эссеистика была делом коллективным. Я корректировала принцип повествования, чтобы удовлетворить запросы различных редакторов, и добавляла сюжету остроты, чтобы соответствовать читательским ожиданиям. Я видела, как мои лучшие абзацы вымарываются, потому что дизайнерам нужно больше места для иллюстрации. Я сокращала текст вдвое, потому что внезапно отваливался какой-нибудь рекламодатель, а чем меньше спонсорских долларов, тем меньше страниц. Я училась, как писать для журнала, формируя свое письмо, но также я формировала себя: моей целью было стать гибкой и быстрой, этакой палочкой-выручалочкой.
Много лет спустя мне как-то позвонил редактор одного журнала и сказал, что у них слетела передовица – длинная статья о прокрастинации, – а сдача номера завтра. Не напишу ли я для них что-нибудь – что угодно – к завтрашнему дню? Конечно напишу. Именно это я в себе и воспитывала.
Работа в журнале была занятием нестабильным – задания отменялись по прихоти, гонорары задерживали, кто-нибудь всегда был должен мне за издержки, – но я никогда не забывала о том, насколько это проще, чем обслуживать столики или проверять сочинения. Годы, проведенные в окопах фриланса, в конечном счете окупились; мне стали поручать замечательные редакционные задания. Я объездила все великие оперные театры Италии, отправилась в фиктивный свадебный отпуск на Гавайи, проехала в кемпере по американскому Западу, и все это за чужой счет. Когда меня спрашивают, как получить такие задания, я советую то, что сработало для меня: восемь лет внештатного авторства в «Севентин».
В моем сознании проза и нон-фикшн отстоят так далеко друг от друга, что я бы сказала, за те годы, что они во мне уживались, общего у них было не больше, чем у художественной литературы и работы официанткой. Писать роман, даже когда все идет гладко, мне трудно, а статью, даже, на первый взгляд, требующую немалых усилий, легко. Полагаю, эссеистика дается мне легко именно потому, что с прозой мне непросто; мне гораздо проще сколотить эссе, нежели остаться один на один со следующей главой моего романа. Но я пришла к пониманию, что, хотя годы работы романиста улучшили мои писательские навыки по всем фронтам, годы работы со статьями, и особенно ранние годы в «Севентин», превратили меня в ломовую лошадь, что, в свою очередь, помогает в работе над романами. Также в «Севентин» из меня по капле выдавливали эго. Где-то на том пути я научилась испытывать лишь мельчайшее, еле уловимое покалывание, когда видела, как мои лучшие пассажи вымарываются из статьи, потому что не двигают историю. В итоге и этот навык пригодился мне в работе с прозой. Разговоры, что я так часто вела с редакторами журналов, теперь были частью моего сознания. Теперь я могла читать написанное с двух точек зрения.