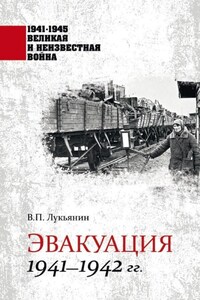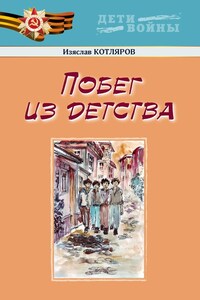«Бегство», которое привело к победе
Об эвакуации и сегодня говорят часто в разных контекстах: эвакуируют обитателей подтопленных паводком селений, эвакуируют жильцов охваченного пожаром дома, эвакуируют работников и посетителей якобы (хорошо, если «якобы»!) заминированного торгового центра, эвакуируют, в конце концов, припаркованный в неположенном месте автомобиль. Но если слово «эвакуация» упомянуть вне контекста, то подавляющая часть жителей нашей страны на уровне подсознания свяжет его с событиями начала Великой Отечественной войны.
В энциклопедическом словаре, выпущенном еще в советское время к сорокалетию Победы, эвакуация деловито определяется как «перебазирование осн[овных] производит[ельных] сил из прифронтовых и угрожаемых р[айо] нов на Восток», которое «явилось важнейшим звеном перестройки нар[одного] х[озяйст]ва на воен[ый] лад»[1]. А в народной памяти, хоть сменилось уже три или даже четыре поколения, по сей день сохраняются картины всенародного бегства, и неважно – просто ради спасения жизни или вместе с оборудованием разоренного предприятия: бесконечные потоки измученных людей, бредущих с заплечными мешками или ручными тележками по раскисшим осенним дорогам, медлительные эшелоны с громоздкими металлическими монстрами на платформах, а между платформами – продуваемые насквозь теплушки с мамами-папами, детьми и скудным домашним скарбом, который удалось (или позволено было) с собой увезти. А над головами беженцев – стервятники-мессершмитты, сеющие разрушение и смерть.
Нет смысла противопоставлять одно другому: было и то, и то. А проще сказать, было народное бедствие, сопоставимое по масштабу с катастрофой первого дня войны. Ибо, как утверждается в разных источниках, около 17 миллионов человек[2] – десятая часть тогдашнего населения нашей страны, – были увезены из обжитых мест в регионы, отдаленные от театра военных действий на сотни и тысячи километров, однако там ведь не было элементарных условий для размещения такого наплыва беженцев, так что и для коренных обитателей далекого тыла (их-то было в разы больше) эвакуация обернулась тяжким испытанием. Прямо или косвенно страдания, связанные с эвакуацией, коснулись практически всего населения СССР, вот почему память о ней, как и память о фронтовых событиях, до сих пор жива в каждой семье, в каждом роду.
И народное хозяйство вследствие эвакуации претерпело такое же потрясение: тысячи предприятий из районов, где ожидалось вражеское нашествие, были демонтированы и по частям вывезены в удаленные от фронта края. Это сейчас мы знаем, что прибывшую с эвакоэшелонами технику в тылу реанимировали для работы на оборону, а вы представьте себе, как складывалась ситуация в то время. Вот какую картину нарисовал Н.А. Вознесенский, председатель Госплана во время Великой Отечественной войны: «В результате военных потерь, а также эвакуации сотен предприятий валовая продукция промышленности СССР с июня по ноябрь уменьшилась в 2,1 раза. В ноябре и декабре 1941 года народное хозяйство СССР не получило ни одной тонны угля из Донецкого и Подмосковного бассейнов. Выпуск проката черных металлов – основы военной промышленности – в декабре 1941 года уменьшился против июня 1941 года в 3,1 раза, производство проката цветных металлов, без которого невозможно военное производство, за тот же период сократилось в 430 раз; производство шарикоподшипников, без которых нельзя выпускать ни самолетов, ни танков, ни артиллерии, сократилось в 21 раз»[3].
Вот и попробуйте с тем, что осталось в распоряжении воюющей страны, производить оружие, налаживать оборону!
Конечно, что-то пострадало от бомбежек, артобстрела – но больше все-таки от того, что до последнего момента напряженно работавшие на оборону предприятия под напором обстоятельств были разорены и фактически уничтожены самими их хозяевами: что могли – демонтировали и вывезли, а что вывезти было невозможно (например, шахты, плотины) или не успевали – привели в негодность или уничтожили, чтоб не досталось врагу. А ведь это все потери только на начальной стадии эвакуации, на момент отъезда на восток страны.
Между тем увезли – это еще не значит сохранили: что-то погибло в ходе транспортировки (эшелоны же бомбили!), что-то потерялось в пути (что вполне объяснимо при тогдашней перегруженности всех транспортных артерий и неизбежной в такой ситуации неразберихе), чему-то не нашли применения на месте. Однако и то, что попало по назначению, «имплантировалось» в производственную среду, которая до того существовала в тыловых регионах, порой не менее болезненно, нежели чужеродные органы в живой организм.
Не надо быть провидцем, чтобы знать наперед, что из всего этого получится. К тому же в российском прошлом уже была попытка эвакуации предприятий вместе с квалифицированными рабочими и сырьем во время Первой мировой войны, и она окончилась очевидной неудачей. Историк А.Л. Сидоров, изучавший этот опыт, пришел к выводу: «Эвакуация в ряде случаев свелась только к собиранию всякого рода сведений и к составлению планов эвакуации и лишь в малой мере вылилась в вывоз промышленного оборудования, сырья и рабочей силы»[4]. Более характерным для того времени было бегство из «угрожаемых районов» (было в ходу такое выражение) в относительно безопасные места обывателей, обремененных лишь бытовыми пожитками, но и его масштабы несравнимы с тем, что происходило в 1941 году. «Согласно отчетам, – пишет авторитетный екатеринбургский архивист, – на начало 1917 года в Екатеринбургском уезде находилось 4472 беженца»[5]. Между тем счет эвакуированных на Средний Урал в 1941 году шел на сотни тысяч (цифры называются разные, но нам к этому вопросу еще предстоит вернуться).
Так что рассматривать всерьез возможность эвакуации применительно к крупным предприятиям, имеющим многотысячные коллективы, никому прежде и в голову не приходило. Не было такой практики в мировой истории войн!
Тем более немцы не ожидали подобной новации от народа, к которому относились с расистским высокомерием. Поэтому, я думаю, ни разведка противника, ни гитлеровские стратеги не усматривали чего-то опасного для рейха в томительно медленном движении эвакоэшелонов из прифронтовой зоны в глубь советской территории: в восприятии гитлеровцев это было продолжение разрушения «колосса на глиняных ногах», начатое блиц-операцией вермахта в ночь на 22 июня 1941 года. Уверенность в том, что результат первого удара будет именно таким, была главной предпосылкой «плана Барбаросса», так что все у них шло по плану. Продолжением плана было и то обстоятельство, что гитлеровские стервятники любили «попугать» беженцев внезапными атаками с воздуха, после которых на израненной земле оставались груды искореженной техники и окровавленные трупы: своими разбойными налетами захватчики вовсе не собирались остановить эпический исход уже побежденной, как им казалось, страны, а хотели только подчеркнуть свое полное военное превосходство и предупредить саму возможность появления у «недочеловеков» мысли о сопротивлении.