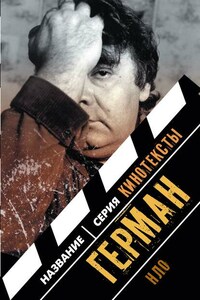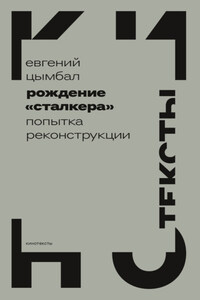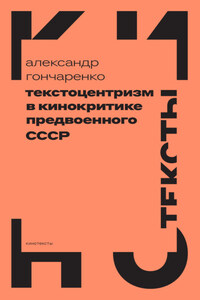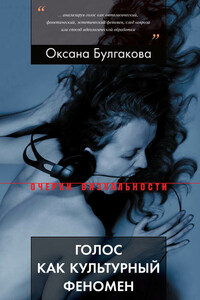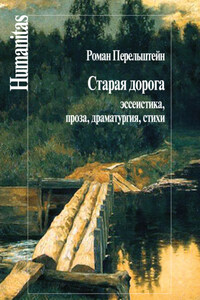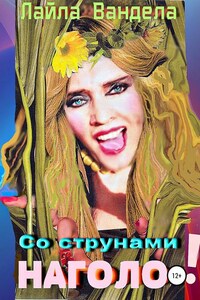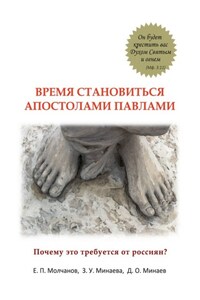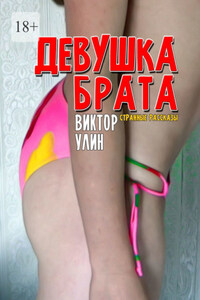Язык жестов придворного XVII века отличался от телесного поведения человека Просвещения или крестьянина XVIII века. Он осваивался детьми, копирующими взрослых, передавался от воспитателей к ученикам, но когда происходил слом традиции, менялись не только ритуальные или этикетные формы, такие как приветствие и поведение за столом, но и то, что, казалось, дано природой, например манера стоять и ходить. Для выработанных обществом правил телесного поведения были найдены формы сохранения (помимо подражания и устной передачи): тексты, картины, статуи, закрепляющие память тела. Туристы, фотографирующиеся у водопадов, руин и колонн, бессознательно воспроизводят виденные ими портреты, подражая даже их фону.
Что происходит с памятью тела, когда темп изменений увеличивается, рамки социальных групп становятся подвижными и национальная традиция подвергается переосмыслению хотя бы уже потому, что с начала прошлого века люди становятся кинозрителями, а фильмы, пересекающие границы культур, – частью их повседневного опыта?
Благодаря кино XX век стал первым столетием, законсервировавшим телесное поведение не только в словесном описании и в статичной позе – в статуе, в картине или на фотографии, – но и в движении. Появление кино породило несколько утопий, одна из которых связана с тем, что аппарат по записи движения обостряет подражательные способности зрителей в отношении моторных реакций. В середине XIX века английский физиолог Уильям Бенджамин Карпентер (1813–1885) описал идеомоторный феномен, который позже был подтвержден электрофизиологическими опытами. Созерцание движения человеческого тела вызывает в наблюдателе слабое сокращение мускулов, участвующих в движении наблюдаемого[1]. Любой зритель знает, не подозревая о существовании эффекта Карпентера, как напрягается его собственное тело, когда он следит за драками, погонями или опасными трюками на экране. Карпентер умер до появления кино, и Вальтер Беньямин вряд ли был знаком с его гипотезой[2]. Предположение Беньямина о том, что подражательные способности, развитые у людей больше, чем у животных, но отнюдь не являющиеся антропологическими константами, обострились с возникновением кинематографа, было вдохновлено идеями не физиологов, а психологов, изучавших развитие ребенка, – таких как Жан Пиаже[3], и психоаналитиков. Размышляя о творческой спонтанности, моторной активности и импровизации у детей, которая разрушается воспитанием внутри буржуазной цивилизации, Беньямин замечал, что подражательная способность детей, перенимающих у взрослых весь набор жестов, способствует сохранению телесных навыков определенного общества, но препятствует тому, чтобы дети обогатили телесный язык своих воспитателей[4]. Альтернативный пролетарский детский театр мог бы раскрепостить эту творческую энергию[5], но то был эксперимент для небольшой группы, тогда как кино стало педагогическим пособием для масс. Оно включило в область сознательно осваиваемого оптическое бессознательное, часть которого, инстинктивное бессознательное, было предметом изучения психоаналитиков[6]. Именно это моторное инстинктивное бессознательное, как считал Ганс Закс, директор Берлинского психоаналитического института и консультант первого психоаналитического фильма «Тайны одной души» (1926), обнаруживается при помощи кино[7].
В то, что фильмы развивают подражательные способности, верили и русские политики, критики и художники. Не ссылаясь на физиологов, антропологов, социологов, психоаналитиков, они рассматривали кино прагматически – как педагогическое средство, помогающее ускорить модернизацию общества.
Кино должно помочь селекционировать человеческий быт и человеческое движение. Нигде нет таких отсталых навыков, как в быту. Вероятно, мы даже пальто надеваем неправильно. Навыки переходят друг от друга, от поколения к поколению непроверенными, потому что быт не инструктируется и не может инструктироваться обычным способом. Мы снимаем заводы и снимаем их пейзажно, но завод не нуждается в том, чтобы проверить себя в кино. У нас не снято, как нужно дышать, как подметать комнату, как мыть посуду, как топить печку, хотя в одной топке печей у нас такая бесхозяйственность и варварство, перед которым меркнет даже кинематография. Нужно создать ленту, которая не передразнивала бы жизнь ‹…› а натаскивала ее, как молодого щенка, –
писал Виктор Шкловский в 1928 году, переформулируя более ранние мысли Троцкого[8].
В этой книге я попыталась проследить, как на протяжении ХХ века менялось телесное поведение, запечатленное на пленке. Первая часть (главы 1–3) посвящена русскому и советскому кино 1898–1956 годов, которое активно «инструктировало» зрителей, как дышать и как надевать пальто. Фильмы стали своеобразным документом социальных перемен и социальных утопий и пластично выявили в теле актера, воплощающего желанную модель, столкновение утопии и реализации. Вторая часть (глава 4) обращается к европейскому послевоенному кино и анализирует влияние американских фильмов и их телесного языка на эстетическую и политическую культуру в разделенной Германии (с оглядкой на итальянские, французские, британские и советские фильмы). Американские политики разработали при помощи психологов и антропологов специальную программу для перевоспитания немцев в духе демократии, так и названную – Re-Education, и фильмы играли в ней огромную роль. Германия рассматривалась как социальная лаборатория, что сближает американский послевоенный эксперимент с советским опытом. Третья часть (глава 5) обращается к схожим процессам адаптации чужого телесного и кинематографического языка в китайском кино конца ХХ века.
Эта работа не стремится анализировать символические позы, жесты и особенности актерских стилей, хотя разные актерские школы, несомненно, влияют на представление форм телесной выразительности и коммуникации. Основное внимание здесь уделяется незнаковым движениям – тому, как люди ходят, сидят, лежат и стоят, пьют, едят и вступают друг с другом в телесный контакт при диалоге, флирте, поцелуе. Французский антрополог Марсель Мосс предложил для обозначения этих незнаковых жестов термин «техники тела»[9]. Подобное ограничение может вызвать понятное недоумение. Область этих телодвижений была материалом исследований либо физиологов и медиков, наблюдающих патологические отклонения, либо социальных антропологов и лингвистов, изучающих типы телесной коммуникации, либо историков и культурологов, исследующих манеры и этикет. Внимание же искусствоведов, театроведов и киноведов обычно было сосредоточено на иконографических, эмблематических, символических жестах, их происхождении и мутации. Что может дать наблюдение за тем, как люди на экране сморкаются?