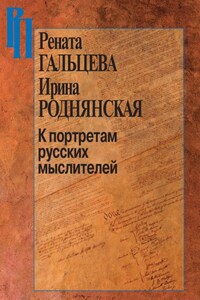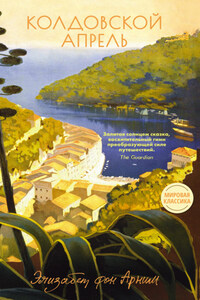От Павла Александровича Б…
к Семену Николаевичу В…
Сельцо М…ое, 6 июня 1850.
Четвертого дня прибыл я сюда, любезный друг, и, по обещанию, берусь за перо и пишу к тебе. Мелкий дождь сеет с утра: выйти невозможно; да и мне же хочется поболтать с тобой. Вот я опять в своем старом гнезде, в котором не был – страшно вымолвить – целых девять лет. Чего, чего не перебывало в эти девять лет! Право, как подумаешь, я точно другой человек стал. Да и в самом деле другой: помнишь ты в гостиной маленькое, темненькое зеркальце моей прабабушки, с такими странными завитушками по углам, – ты всё, бывало, раздумывал о том, что оно видело сто лет тому назад, – я, как только приехал, подошел к нему и невольно смутился. Я вдруг увидел, как я постарел и переменился в последнее время. Впрочем, не я один постарел. Домишко мой, уже давно ветхий, теперь чуть держится, весь покривился, врос в землю. Добрая моя Васильевна, ключница (ты ее, наверно, не забыл: она тебя таким славным вареньем потчевала), совсем высохла и сгорбилась; увидав меня, она даже вскрикнуть не могла и не заплакала, а только заохала и раскашлялась, села в изнеможении на стул и замахала рукою. Старик Терентий еще бодрится, по-прежнему держится прямо и на ходу выворачивает ноги, вдетые в те же самые желтые нанковые панталошки и обутые– в те же самые скрыпучие козловые башмаки, с высоким подъемом и бантиками, от которых ты не однажды приходил в умиление… Но, боже мой! – как болтаются теперь эти панталошки на его худеньких ногах! как волосы у него побелели! и лицо совсем съежилось в кулачок; а когда он заговорил со мной, когда он начал распоряжаться и отдавать приказания в соседней комнате, мне и смешно и жалко его стало. Все зубы у него пропали, и он шамкает с присвистом и шипеньем. Зато сад удивительно похорошел: скромные кустики сирени, акации, жимолости (помнишь, мы их с тобой сажали) разрослись в великолепные сплошные кусты; березы, клены – всё это вытянулось и раскинулось; липовые аллеи особенно хороши стали. Люблю я эти аллеи, люблю серозеленый нежный цвет и тонкий запах воздуха под их сводами; люблю пестреющую сетку светлых кружков по темной земле – песку у меня, ты знаешь, нету. Мой любимый дубок стал уже молодым дубом. Вчера, среди дня, я более часа сидел в его тени на скамейке. Мне очень хорошо было. Кругом трава так весело цвела; на всем лежал золотой свет, сильный и мягкий; даже в тень проникал он… А что слышалось птиц! Ты, я надеюсь, не забыл, что птицы – моя страсть. Горлинки немолчно ворковали, изредка свистала иволга, зяблик выделывал свое милое коленце, дрозды сердились и трещали, кукушка отзывалась вдали; вдруг, как сумасшедший, пронзительно кричал дятел. Я слушал, слушал весь этот мягкий, слитный гул, и пошевельнуться не хотелось, а на сердце не то лень, не то умиление. И не один сад вырос: мне на глаза беспрестанно попадаются плотные, дюжие ребята, в которых я никак не могу признать прежних знакомых мальчишек. А твой фаворит, Тимоша, стал теперь таким Тимофеем, что ты себе представить не можешь. Ты тогда боялся за его здоровье и предсказывал ему чахотку; а посмотрел бы ты теперь на его огромные красные руки, как они торчат из узеньких рукавов нанкового сюртука, и какие у него повсюду выпираются круглые и толстые мышцы! Затылок, как у быка, и голова вся в крутых белокурых завитках – совершенный Геркулес Фарнезский!{2} Впрочем, лицо его изменилось меньше, чем у других, даже не очень увеличилось в объеме, и веселая, как ты говорил, «зевающая» улыбка осталась та же. Я его взял к себе в камердинеры; своего петербургского я бросил в Москве: очень уж он любил стыдить меня и давать чувствовать свое превосходство в столичном обращении. Собак моих я не нашел ни одной; все перевелись. Одна Нефка дольше всех жила – и та не дождалась меня, как Аргос дождался Улисса;{3} не пришлось ей увидеть бывшего хозяина и товарища по охоте своими потускневшими глазами. А Шавка цела и так же лает сипло, и одно ухо так же прорвано, и репейники в хвосте, как быть следует. Я поселился в бывшей твоей комнатке. Правда, солнце в нее ударяет, и мух в ней много; зато меньше пахнет старым домом, чем в остальных комнатах. Странное дело! этот затхлый, немного кислый и вялый запах сильно действует на мое воображение: не скажу, чтобы он был мне неприятен, напротив; но он возбуждает во мне грусть, а наконец унылость. Я, так же как и ты, очень люблю старые пузатые комоды с медными бляхами, белые кресла с овальными спинками и кривыми ножками, засиженные мухами стеклянные люстры, с большим яйцом из лиловой фольги посередине, – словом, всякую дедовскую мебель; но постоянно видеть всё это не могу: какая-то тревожная скука (именно так!) овладеет мною. В комнате, где я поселился, мебель самая обыкновенная, домодельщина; однако я оставил в углу узкий и длинный шкаф с полочками, на которых сквозь пыль едва виднеется разная старозаветная дутая посуда из зеленого и синего стекла; а на стене я приказал повесить, помнишь, тот женский портрет, в черной раме, который ты называл портретом Манон Леско.{4} Он немного потемнел в эти девять лет; но глаза глядят так же задумчиво, лукаво и нежно, губы так же легкомысленно и грустно смеются, и полуощипанная роза так же тихо валится из тонких пальцев. Очень забавляют меня шторы в моей комнате. Они когда-то были зеленые, но пожелтели от солнца: по ним черными красками написаны сцены из д’арленкуровского «Пустынника».{5} На одной шторе этот пустынник, с огромнейшей бородой, глазами навыкате и в сандалиях, увлекает в горы какую-то растрепанную барышню; на другой – происходит ожесточенная драка между четырьмя витязями в беретах и с буфами на плечах; один лежит, en raccourci[2], убитый – словом, все ужасы представлены, а кругом такое невозмутимое спокойствие, и от самых штор ложатся такие кроткие отблески на потолок… Какая-то душевная тишь нашла на меня с тех пор, как я здесь поселился; ничего не хочется делать, никого не хочется видеть, мечтать не о чем, лень мыслить; но думать не лень: это две вещи разные, как ты сам хорошо знаешь. Воспоминания детства сперва нахлынули на меня… куда я ни шел, на что ни взглядывал, они возникали отовсюду, ясные, до малейших подробностей ясные, и как бы неподвижные в своей отчетливой определенности… Потом эти воспоминания сменились другими, потом… потом я тихонько отвернулся от прошедшего, и только осталось у меня в груди какое-то дремотное бремя. Вообрази! сидя на плотине, под ракитой, я вдруг неожиданно заплакал и долго бы проплакал, несмотря на свои уже преклонные лета, если бы не устыдился проходившей бабы, которая с любопытством посмотрела на меня, потом, не обращая ко мне лица, прямо и низко поклонилась и прошла мимо. Я бы очень желал остаться в таком настроении (плакать, разумеется, я уже больше не буду) до самого моего отъезда отсюда, то есть до сентября месяца, и очень был бы огорчен, если б кто-нибудь из соседей вздумал посетить меня. Впрочем, опасаться этого, кажется, нечего; у меня же и нет близких соседей. Ты, я уверен, поймешь меня; ты знаешь сам по опыту, как часто бывает благотворно уединение… Оно мне нужно теперь, после всяческих странствований.