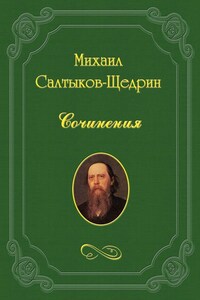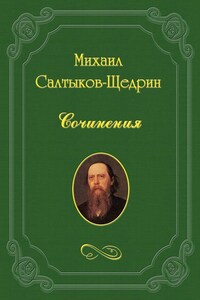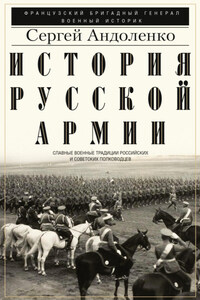1. «Пласты нежности, воздушности, веры…»
Мой поход начну издалека, с глубокого тыла, с разведки без боя, с литературной топографии, а не с фронтовой линии романа. Если уж спустился в лабиринты времени «другой памяти», неотделимой от «идеи смерти», то лучше бы не лезть на рожон, а хватать быка-Минотавра за хвост, поджидающего нас всечасно за каждой душистой травинкой, словно кузнечика. О храбрость! Не оставь нас, мужество!
Идея смерти у Николая Кононова, вокруг которой кристаллизуются его тексты, сначала помещается в раствор детских воспоминаний («Похороны кузнечика»), а потом в раствор юношески-взрослых воспоминаний («Фланёр»). И феноменологический, и культурологический, и алхимический состав растворов воспоминаний этих двух произведений будет разным, а также разным будет фермент любви. Отсюда будет различна музыкальная структура двух произведений.
«Память стала похожа на работу маниакального сосредоточенного систематизатора, разбирающего все по признаку тления, гниения и увядания, заносящая все-все это на одинаковые, лежащие в одном ящике каталожные карточки сомнительной любви, перегоревшей вины, сублимированной жалости, изжитого сострадания» («Похороны кузнечика»).
Если текст уподобляется работе памяти, которая, кстати, подрывает авторский у(за)мысел, то художественный текст способен создавать всё новые и новые синапсы ассоциативных связей, непредугаданные автором, но возникающие в воображении читателя. Три типа дискурса различал Ролан Барт: научный, критический и читательский. Опираясь на последний, не исключающий воображения, я всё-таки пытаюсь удерживать этот инструмент в рамках литературной критики.
* * *
…Вот поэтому перечитывать роман «Фланёр» можно с любой страницы, фрагментарно: выхватить взглядом фразу, а то и развёрнутую сентенцию, к которой склонен наблюдательный и педантичный, с острым жалом ум Николая Кононова, например, в духе «Опытов» Монтеня, ну, вроде вот этой, беру наугад: «Смерть – не только избавление от смерти, она – избавление от всех зол. Это – надёжная гавань, которой никогда не надо бояться и к которой часто следует стремиться…»-вот взять образ, метафору, идею, положить под язык и гонять во рту, словно стих, пока не истает до тонкого смыслового ощущения, пока не растворится, как растворился в конце концов его герой-повествователь в русском метафизическом пространстве, где-то за пределами восточного берега русского Нила – то есть Волги, как величает великую реку Николай Кононов вслед за Василием Розановым…
Как-то само собой получилось, что эти два имени встали рядом в моей строке, и, видимо, не случайно, ибо необходимо также упомянуть книгу «Люди лунного света. Метафизика христианства» (1913). Этот тип людей, сентиментальных селенитов, изгоев советского политического быта, он исследует изнутри их чувственного опыта, пугающего и отпугивающего некоторых отечественных критиков, как будто не знающих ничего ужаснее среди современных ужасов перманентной социальной катастрофы в этом подлунном мире, чем ужасная мужская амбивалентная сексуальность. Н. Кононова влекут грозовые перевалы сексуальных фобий, он идет на рожон, имея целью снять табу с проклятущей темы мужеской телесности. От «апофеоза эпидермиса» – через «мягкую аниму» – к торжеству духа! Вот этический вектор его идей.
Критиков могут возмущать даже чувственные рассказы Шахразады «Об Абу-Новасе и трёх юношах», «О Везире Берд-Ад-Дине» и др., которые, по счастью, были доступны ещё советским школьникам. Ведь не запрещали им прогуливаться в персидском розарии Абу Мухаммад Муслих ад-Дин ибн Абд Аллах Саади Ширази, читая в тени платанов, дубов и бузины книгу «Гулистан», если не на арабском, то в переводе Рустама Алиева и Анатолия Старостина:
«Помню я, в минувшие дни мы с моим другом жили в согласье, словно два ореха в одной скорлупе. Как-то нам пришлось разлучиться. Через некоторое время друг мой возвратился и стал укорять меня: – За это время ты не послал мне ни одного гонца! Я ответил: – Мне было бы завидно, если бы взгляд гонца светом твоей красоты был озарен, когда я был ее лишен! – ответил я». (Глава пятая. О любви и молодости. Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1957) Не этой ли новеллой, или похожей, в чьем-либо переложении, вдохновился Пушкин, когда написал стихи «Подражание арабскому»:
«Отрок милый, отрок нежный,/ Не стыдись, навек ты мой;/ Тот же в нас огонь мятежный,/ Жизнью мы живем одной./ Не боюся я насмешек:/ Мы сдвоились меж собой,/ Мы точь в точь двойной орешек/ Под единой скорлупой». (1835)
Н. Кононов сказывает свой западнославянский эпос, роман-эрос, обрамляя сюжет «любовного дискурса» в конкретный исторический период, теперь уже проклятый и проклинаемый. Орнаментальный стиль повествования сближает с арабскими эротическими сказаниями не смыкающей глаз невольницы Шахразады. Над «вежливым грехом» остроумно посмеивался Александр Пушкин в послании «КВигелю», и всего только. Упомяну также его стихотворение «Из Гафиза», посвящённое
Фаргат-Беку, воину из мусульманского конного полка русской армии, чей портрет мы можем созерцать в собрании сочинений поэта. Этим стихотворным заклинанием от смерти, пронизанным трепетной мужской эротикой, мог бы провожать на фронт своего польского возлюбленного повествователь кононовского романа, знай он в тот период русский язык и литературу.
«Не пленяйся бранной славой,/ О красавец молодой!/ Не бросайся в бой кровавый/ С карабахскою толпой!/ Знаю: смерть тебя не встретит;/ Азраил, среди мечей,/ Красоту твою заметит – / И пощада будет ей!/ Но боюсь: среди сражений/ Ты утратишь навсегда/ Скромность робкую движений,/Прелесть неги и стыда!»
Ну ладно, культурологический background эпатажной темы обрисовали достаточно, и хватит, не в ней дело, не в этом суть. Не влечение к смерти, а воскрешение из памяти возлюбленного образа польского офицера Тадеуша Гремыка, бесследно исчезнувшего в героико-патриотических боях за аннексию чехословацкой области Тешин в октябре 1938 года, стало лейтмотивом этого континуального эссеистического повествования, охватывающего целое десятилетие середины двадцатого века. И хотя роман заканчивается 8 октября 1948 года, что отмечено вкладышем отрывного календаря, некоторые детали (сравнение лица Тадеуша Г. с алтайским лицом актёра Василия Шукшина) свидетельствуют, что само повествование возобновилось примерно в шестидесятые годы. И сколько-то времени ещё корректировалось. То есть герой выжил, выжил, как говорит автор, «без Спасителя», хоть исчез где-то в дальневосточных таежных дебрях.