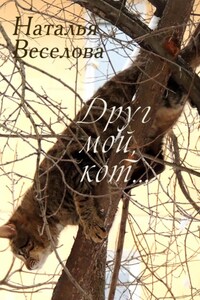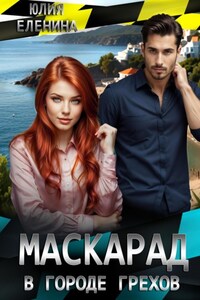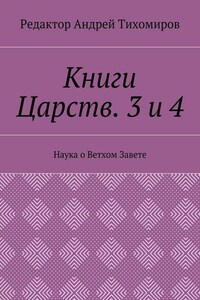О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.
О. Мандельштам
Глава первая
Безумная ночь
Машина то и дело ворчала и дергалась. Когда за рулем сидела мама, бывало совсем не так: она говорила, что «десятка» их старенькая, даже старше, чем Незабудка, а и у той мордочка уже совсем седая. «Незабудку ведь мы жалеем – вот и машину должны пожалеть, а то она не захочет больше нас возить, а новую купить все равно не на что». В сущности, из-за Незабудки Сашенька и вляпалась негаданно в эту подозрительную историю, явно не сулившую ничего хорошего, потому что, если Зинаида Михайловна заметит, то… даже думать не хотелось о том, что будет дальше… Да какая там Зинаида Михайловна! Сашенька осторожно потрясла под пледом головой (точно так же всегда делала ее мама, когда хотела избавиться от неправильных мыслей): пора было перестать притворяться хотя бы перед самой собой – никакой не Зинаидой Михайловной она давно звала про себя эту хитрую и подлую тетку, а Резинкой – закономерно выросшей из Зинки.
Резинка свирепо дергала переключателем скоростей, а ногами проделывала с педалями что-то такое, отчего даже видавшая виды мамина «десятка» каждый раз захлебывалась от оскорбления и вскрикивала, словно ее пытали. Так, наверное, и есть, сочувственно думала сжавшаяся под горой одеяла на заднем сиденье за спиной водителя Сашенька. Впрочем, если на то пошло то никакая и не Сашенька – так она только сама себя называла, а все остальные, включая и маму, неизменно звали Сашкой – правда, если мама хотела выразить недовольство, то звала дочь Александрой, трагически раскатывая неуместное в девичьем имени «р». А отчим отстраненно называл дочь жены Девочкой – когда в разговоре с мамой изредка считал нужным вскользь упомянуть ее: «Получше бы следила за Девочкой – опять в ванной вода на полу. – Я сейчас… – немедленно срывалась с места мать, с изменившимся лицом кидаясь за китайской шваброй. – Александр-ра! Сколько раз я могу тебе повторять!..». Непосредственно к Сашеньке отчим никогда не обращался – сначала ей казалось, что он намеренно демонстрирует таким образом царственное пренебрежение к малявке, но потом откуда-то стало ясно, что ее действительно не существует для этого ослепительного, как снег под безоблачным январским небом, красавца северных кровей.
Отчим, Семен Евгеньевич Суворов, появился в доме четыре года назад, когда Сашенька только что закончила первый класс – и сразу стал для падчерицы источником захватывающих дух восторгов и столь же интенсивных терзаний. Невозможно было не испытывать священного трепета перед человеком, словно сошедшим во всем великолепии с победоносного корабля викингов: росту в нем было, по Сашенькиным подсчетам, около двух метров – причем, подсчеты имели место в реальности: она долго прикидывала, на сколько сантиметров голова отчима не достает до верха их югославской стенки, а потом не поленилась взять рулетку, залезть на табурет и измерить получившуюся величину. После всех необходимых арифметических действий, тщательно выполненных на калькуляторе, получилось 196 сантиметров – да еще если учесть, что торс викинга представлял собой почти классический треугольник, то выходило, что Семен Евгеньевич – готовая кандидатура на обложку мужского журнала. Впрочем, голова туда не совсем годилась. Как подметила Сашенька, скитаясь иногда вокруг газетных ларьков (с целью попросить, но так ни разу и не решившись этого сделать, таинственный журнал для девушек, над которым на переменах шептались старшеклассницы), для обложки требовался мужчина, бритый дня три назад – а отчим ее был обладателем светлой курчавой бородки, обрамлявшей твердый подбородок и тонкие губы, – и таких же волос, умеренно коротко подстриженных. Гордый нос с аристократической горбинкой явно принадлежал потомку знатной фамилии, а глаза… Сашенька не знала, как их описать, если кто-то вдруг спросит. Ну, вот если бы вдруг два кусочка неба – только не жаркого, летнего, а такого, как в стихотворении Пушкина про мороз и солнце, – превратились бы вдруг в две льдинки – то, пожалуй, получилось бы что-то похожее на глаза дяди Сени. Это мама велела его так называть – четыре года назад, но Саша только один раз попробовала – и сразу стало ясно, что повторять попытку бесполезно – себе же больней сделаешь.
В тот вечер, когда мама, как всегда, вела свой платный прием, а отчим, тоже как всегда, работал у себя в кабинете, у Сашеньки в комнате вдруг перегорела лампочка – вдруг зазвенела-зазвенела, потом – пырк! – и темнота. Девочка знала, что запасные лампочки хранятся у мамы в стенке, за дверцей наверху – надо только старую вывинтить – кому, как не дяде Сене! Она трусцой перебежала прихожую – там, между шкафом и стенным выступом, было оборудовано нечто вроде спаленки для мамы (она называла это пространство «светелкой») – оттуда попала в темную гостиную – и, прокравшись по паласу, нерешительно замерла перед застекленной дверью кабинета отчима. Матовое стекло мерцало зеленым: на широком письменном столе горела уютная антикварная лампа под плоским стеклянным абажуром. Отчим не знал, что в одном из матовых квадратиков на двери падчерица давно еще процарапала маленькую прозрачную полосочку специально для подглядывания, но сейчас она подсмотреть туда не посмела, на полном серьезе испугавшись, что звук сердца, оголтело колошматившего по ребрам, будет слышен не только в кабинете, но и на улице. Она еле слышно постучала, почти поскреблась в дверь. Ответа не последовало. Сашенька еще раз поскреблась и для пущей убедительности добавила вполголоса: «Дядя Сеня!». Эффект прежний. Тогда она, не сознавая вполне своей дерзости, осторожно потянула ручку – и дверь бесшумно приотворилась, явив взгляду пустой письменный стол с чернильным черного мрамора прибором девятнадцатого века и горящей лампой, ему ровесницей, слегка модернизированной в угоду электричеству.
Семен Евгеньевич никогда за столом не работал: он делал это, сидя на своем кожаном диване и придвинув к нему наклонную конторку с укороченными ножками. Пачка бумаги лежала рядом с ним, а на конторке помещался только один лист. Исписав его своим отрывистым почерком, способностью понимать который была наделена лишь мама, Семен Евгеньевич тотчас же, не глядя, бросал его на пол и брал себе из пачки следующий; когда и на нем не оставалось места, его постигала та же участь – и к приходу мамы от последнего пациента весь пол кабинета оказывался усеянным разрозненными листами рукописи. Отчим никогда не нумеровал их (мама однажды попросила об этом, но он ответил, что не намерен отвлекаться от работы на какие-то цифры), и поэтому мама тратила не меньше часа, чтобы сложить их подряд – сверяя по смыслу последнюю строку каждой страницы с первой на всех оставшихся. После ужина она садилась к компьютеру и бойко перепечатывала все, созданное мужем за день, – и так каждую ночь, потому что иначе неотпечатанного материала накапливалось слишком много, и сидеть за компьютером приходилось не в пример дольше. Потом, когда рукопись была готова, из пасти принтера выскальзывали один за другим красивые, как в книге, листы – но и они постепенно теряли привлекательность, подвергаясь беспощадной чернильной правке, размашисто делаемой отчимом – тогда очередной ночью мама выправляла на компьютере текст, он снова шел на доработку, и так до тех пор, пока Семен Евгеньевич не объявлял, что работа закончена и пора уже отправлять ее в издательство…