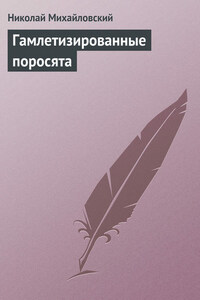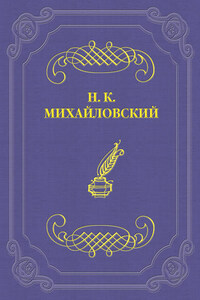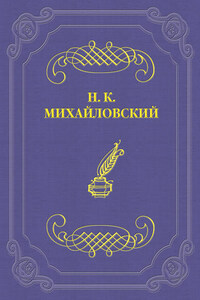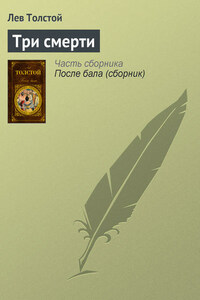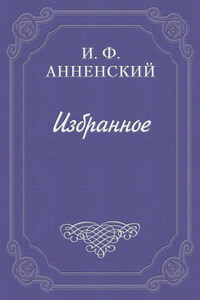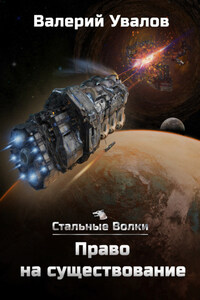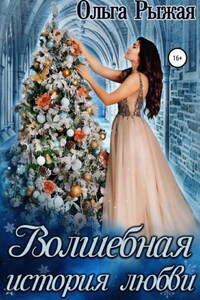Говоря о многочисленности и разнообразии характера Гамлета, Маудсли замечает: «При откровенном признании со стороны сочувствующего читателя оказалось бы, по всей вероятности, что он считает самого себя настоящим Гамлетом; неудивительно, что, по его мнению, он всего более и способен понять этот характер»[1]. В этом замечании много правды, и самая интересная правда состоит в том, что действительно многим, слишком многим людям кажется, что они удивительно похожи на знаменитого датского принца; едва ли даже найдется более счастливый в этом отношении литературный тип. Отчасти это объясняется, конечно, художественным гением Шекспира, который воплотил в Гамлете широко распространенные черты человеческого духа. Но с этим объяснением едва ли согласятся все действительные Гамлеты и воображающие себя таковыми. Напротив, они склонны выделять себя из большинства людей, считать себя чем-то особенным, совмещающим именно редкостные, наименее распространенные черты человеческого духа. Значит, Гамлет обаятелен для них совсем не теми своими сторонами, которые попадаются на каждом шагу, чуть не в каждом человеке, только в различных пропорциях. Да наконец, объяснение и само по себе не полно. В Фальстафе ведь тоже воплощены широко распространенные черты, однако что-то мало охотников быть или казаться Фальстафом. Который, если и буквальное повторение Фальстафа собою представляет, так и то не признает своего с ним сходства и, может быть, именно Гамлетом рисуется в собственных мечтаниях или перед другими желал бы рисоваться. Дело понятное. Одна из самых распространенных слабостей человеческой натуры состоит в более или менее высоком о себе мнении, и так как Фальстаф есть старая, переполненная всяким свинством бочка, то ни у кого нет охоты узнать себя в таком зеркале. Гамлет совсем другое дело. Надо только узнать, какие именно черты его характера делают его героем, предметом удивления, поклонения, подражания для множества людей, иногда мелких, как мелкая тарелка, а иногда по крайней мере очень неглупых.
Когда человека приятно щекочет сознание сходства или только праздная мечта о сходстве с каким-нибудь баловнем счастья, вся жизнь которого есть ряд успехов, то тут нет ничего удивительного. Всякому счастья хочется, а успехи и победы, цветочные гирлянды и лавровые венки – все ведь это внешние выражения, атрибуты счастия, за которыми истинного счастия нет, может быть, ни капли, но которые по наглядности своей издревле составляют предмет мечтаний огромного большинства людей. Гамлет не может служить объектом таких элементарных и грубых мечтаний. Он не Иван-царевич, которому достались и жар-птица, и царь-девица; не Аника-воин, что на белом коне скакал, врагов устрашал; не Чурило Пленкович, на которого красные девушки и старые старушки глядели – наглядеться не могли. И во всех других смыслах он отнюдь не баловень счастья. Правда, он принц и наследник датского престола (устраненный, впрочем, от трона преступлением дяди); но не розы и лавры, а тернии, острые, колючие, душу раздирающие тернии венчают его на жизненном пути. Измена, предательство, холопство, лицемерие, низость, пошлость, подлость – вот что он видит кругом себя. И видит не в качестве постороннего зрителя, прямо не задеваемого развивающеюся в его присутствии игрою всяческих гнусностей. Нет, он стоит в самом центре этой игры и на себе выносит все ее случайности и намеренности: дышит нравственно отравленным воздухом и умирает от удара отравленной рапирой. Чему же тут завидовать? об чем мечтать?
Но пусть судьба или так называемые ближние безжалостно пытают Гамлета. Быть может, острие вонзающихся в него терний тупится об сознание исполненного долга, и это сознание не только облегчает его участь, а придает, кроме того, такое величие его фигуре, что здесь-то и надо искать причины указанного Маудсли явления. Нет, этого не может быть. Именно отсутствие сознания исполненного долга и характерно для Гамлета. Он в течение пяти актов все собирается исполнить то, что считает своим долгом, делом чести и совести, и только за несколько секунд до своей смерти исполняет его наконец, но и то случайно и двусмысленно: собственно говоря, уже не за отца своего он мстит, а за самого себя, изменнически убитого. Весь внутренний интерес драмы в том и состоит, что человек, имеющий полную возможность сто раз исполнить свой долг (или то, что он считает своим долгом), постоянно колеблется, отступает, сочиняет ухищренные и ненужные способы проверки своих подозрений, придумывает предлоги для отсрочки, и притом такие предлоги, которым сам не верит. Словом, что касается исполнения долга, Гамлет просто тряпка и сам это очень хорошо понимает. А это, конечно, не такое качество, которое было бы способно возбудить уважение или мечтания о сходстве.
Гамлет, кроме того, умен, даже очень умен. Но эта черта чересчур общая. Если умных людей слишком мало сравнительно с потребностью в них и с количеством людей глупых, то их слишком много для того, чтобы какая-нибудь группа людей возмечтала о своем сходстве с тем или другим умным человеком, собственно по причине его большого ума. Гамлет умен, но и Яго умен, и вообще сам Шекспир так умен, что в его портретной галерее имеется целая коллекция умных людей, которым, однако, не посчастливилось в занимающем нас смысле так, как посчастливилось Гамлету. В этом смысле, впрочем, ум сам по себе никогда не бывает счастлив. Если многие люди мечтают о том, чтобы равняться умом с Кантом, Наполеоном, Байроном и т. п., то дело тут не в уме собственно, а в деятельности, в действии, в создании «Критики чистого разума», или в могучем давлении на политическую жизнь Европы, или в протестации против известного порядка вещей и т. п. Гамлет, будучи очень умным человеком, все время, собственно говоря, бездействует, вследствие чего самый ум его показывается нам со стороны вовсе не привлекательной. Чистый теоретик по складу ума, он поставлен лицом к лицу с практической задачей. При таких условиях даже гораздо более сильный ум не мог бы обнаружиться наиболее блестящими своими чертами. А ум Гамлета, кроме того, еще носит на себе несчастную печать той же бесхарактерности, которою отмечена вся жизнь Гамлета. Это ум, колеблющийся даже в сфере чисто теоретических вопросов. Словом, Гамлет не глубиною или обширностью своего ума плодит гамлетиков и – простите, что забегаю вперед, – гамлетизированных поросят.
Есть в Гамлете еще одна выдающаяся черта. Он, что называется, актерская натура. Он не только искусно притворяется сумасшедшим, но и безнужно притворяется; притворство это, вовсе не оправдываемое практическими соображениями, вытекает непосредственно из его душевной потребности. Недаром он так любит театр, недаром (как давно замечено критикой) он после удачного эффекта представления странствующих актеров радуется не тому, что убедился в истине, а тому, что как он всю эту механику искусно подвел! Механика по замыслу ребяческая, в практическом отношении ненужная, но технически действительно искусно веденная. Мы, впрочем, не будем стоять за то, что Гамлет – притворщик по природе. Маудсли утверждает, что это прямо наследственная черта, бессознательно уловленная гением Шекспира. Но, может быть, дело надо понимать совсем не так. Может быть, склонность Гамлета к притворству и его искусство в этой сфере надо объяснять не непосредственными требованиями натуры, а тем, что человеку, стоящему много выше окружающего общества, доставляет удовольствие играть умом в этом направлении: водить за нос людей, кичащихся своею практическою мудростью. Так или иначе, но может ли такая игра ума стать предметом тайных или явных помыслов о сходстве или подражании? На первый взгляд, конечно, не может, потому что, что же привлекательного в притворстве, то есть вранье? Притворщик чуть не ругательное слово. Не совсем, однако, это так просто. Совершенно независимо от официального кодекса морали во всяком обществе и даже во всяком отдельном слое общества существуют некоторые особые понятия о чести и достоинстве. Иногда они резко противоречат официальному кодексу и находятся поэтому в странном, двусмысленном положении. Поступки, совершаемые на основании этих особых понятий, отчасти скрываются, отчасти же ими, напротив, при случае даже хвастаются. На примерах дело будет яснее видно. Взять, например, взяточничество. Официальная мораль преследует его самым решительным образом, и никто не посмеет выйти на площадь и с гордостью, во всеуслышание объявить себя взяточником. Но ведь не все же на площадях люди живут. Кроме площадей есть на свете улицы, переулки и закоулки. Есть сферы общества, где удачною взяткой хвастаются, где взяточника зовут молодцом, а прозевавшего подходящий случай – дураком. И так смотрят на дело не только те, кто сами взятки берут. Нет, к этому официально столь презренному поступку более или менее снисходительно относится чуть не большинство. Или, например, прелюбодеяние. Кто не знает, что прелюбодей, в сущности, «молодец», не дающий маху, хотя в то же время существует, кажется, даже официальный позорящий термин: «явный прелюбодей». И нельзя сказать, что во всех подобных случаях неофициальный, а тем более действительный кодекс морали не имел в виду настоящих, несомненных достоинств. Напротив. Только достоинства эти отнюдь не морального характера. Взяточник обнаружил ум, ловкость, знание, а это все достоинства. Прелюбодей обладает опять-таки ловкостью, красотой и т. п. – тоже достоинствами. Даже самые грубо низменные в нравственном смысле поступки или привычки могут стать предметом гордости и хвастовства для одних, снисходительного полуодобрения для других, если они связаны с каким-нибудь физическим преимуществом. (О преимуществах умственных в таких случаях не может быть и речи.) Например, обжорство отвратительно и стоит даже ниже черты нравственного суда, но оно требует известных физических достоинств – силы, здоровья, – и потому вы можете встретить людей, хвастающихся обжорством и удивляющихся ему, быть может, втайне мечтающих, как бы это уподобиться NN, который съел целого барана. Любопытно, что неофициальный кодекс, вообще одобряя взяточника или прелюбодея, не простит им успеха, достигнутого без помощи каких-нибудь умственных или физических достоинств. Известно, что взятка, полученная «даром», без знания дела и без некоторого умственного напряжения, никогда даже истыми взяточниками не одобряется. Прелюбодей-старик, то есть лишенный преимуществ силы и красоты, составляет для всех предмет презрения и насмешек. Все это свидетельствует о глубоком общественном непорядке, о раздвоенности и расстроенности нравственных идеалов, причем официальный кодекс морали оказывается бессильным, а неофициальный произносит нравственный суд на основаниях, не имеющих никакого нравственного значения: одно и то же деяние прощает умному, сильному, здоровому, красивому и не прощает глупому, слабому, больному, уроду. Теперь нам нет надобности входить по этому поводу в подробные разъяснения. Мы берем просто факт, как он есть. А некоторые любопытные выводы из него сделаем ниже.