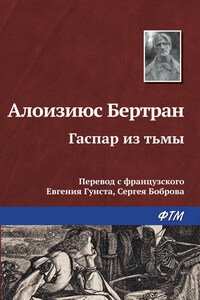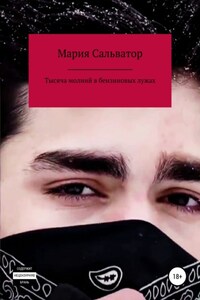[Первое авторское предисловие]
Ты помнишь день, когда, идя дорогой длинной
На Кельн, увидели мы вдруг Дижон старинный
И замерли, смотря, как золотит закат
Высоких шпилей, крыш и колоколен ряд.
Сент-Бёв. Утешения
Зубчатый донжон,
Церковные шпили,
Ввысь башенки взмыли –
Вот он, наш Дижон.
Здесь в небо летели
С древнейших времен
Веселые трели –
Литой перезвон.
Был важной столицей
Наш город старинный;
Он славен горчицей
И маркою винной.
Девиз над гербом
На чугунных вратах,
Жакмар с молотком
На соборных часах.
Я люблю Дижон, как ребенок любит свою кормилицу, как поэт – девушку, впервые тронувшую его сердце. – Детство и поэзия! Как одно быстротечно, как обманчива другая. Детство – это бабочка, которой не терпится обжечь свои белые крылышки в пламени юности, а поэзия подобна миндальному дереву: цветы ее благоуханны, а плоды горьки.
Однажды я сидел в сторонке в саду Пищали названному так по оружию, благодаря коему ловкость рыцарей не раз проявлялась при стрельбе по деревянным птичкам. Я замер на месте и можно было сравнить меня со статуей на бастионе Базир. Шедевр ваятеля Севалле и живописца Гийо изображал аббата, сидящего с книгою в руках. Сутана его была безупречна. Издали его принимали за живого, вблизи же оказывалось, что это гипс.
Какой-то прохожий кашлянул и тем самым развеял рой моих грез. То был жалкий малый внешность которого свидетельствовала о горестях и нищете. Мне уже доводилось встречать в том же саду его обтрепанный, застегнутый до подбородка сюртук, помятую шляпу, которой никогда не касалась щетка, волосы длинные, как ветви ивы, и спутанные, как густой кустарник, его худые костлявые руки, его невзрачное, лукавое болезненное лицо с жидкой назарейской бородкой, и я великодушно отнес его к числу тех мелких ремесленников – то ли скрипачей, то ли художников-портретистов, которых ненасытный голод и неутолимая жажда вынуждают скитаться по свету вслед за Вечным Жидом.
Теперь нас на лавочке было двое. Сосед мой стал перелистывать книжку, и из нее выпал засушенный цветок, чего незнакомец не заметил.
Я подобрал цветок, чтобы подать ему. Поклонившись мне, он поднес цветок к поблекшим губам и положил его снова в свою загадочную книгу.
– Это, вероятно, память о минувшей нежной любви? – осмелился я сказать. – Увы, у каждого из нас есть в прошлом день, который несет нам разочарование в будущем.
– Вы поэт? – спросил он, улыбнувшись.
Ниточка разговора завязалась: на какую же катушку она станет наматываться?
– Да, поэт, – если быть поэтом – значит стремиться обрести искусство.
– Вы стремились обрести искусство! И обрели его?
– Ах, волей небес искусство – всего-навсего несбыточная мечта!
– Несбыточная мечта!.. А я ведь тоже стремился к ней! – воскликнул он, и в голосе его звучали восторженность таланта и пафос победителя.
Я попросил его сказать мне, у какого мастера заказал он очки, позволившие ему сделать такое открытие, ибо для меня искусство не что иное, как иголка, затерявшаяся в копне сена…
– Я решил стремиться обрести искусство, как в средние века розенкрейцеры стремились обрести философский камень, – ответил он. – Искусство – это философский камень XIX века.
Прежде всего я стал искать ответ на вопрос: что такое искусство? – Искусство – наука поэта – Определение ясное, как алмаз самой чистой воды.
Из чего складывается искусство? На этот, второй, вопрос я не решался ответить несколько месяцев. Однажды при свете коптящей лампы я рылся в пыльных залежах знакомого букиниста и откопал там книжечку, написанную трудным невразумительным языком; на титуле ее развевалась лента с двумя словами: Got – Liebe. Я за гроши купил книжку, взобрался к себе на мансарду и стал с любопытством перелистывать покупку у окна, залитого лунным светом; и вдруг мне почудилось будто перст божий коснулся клавиш мирового органа. Так бабочки, шелестя, выходят из чашечек цветов, протягивающих уста навстречу поцелуям ночи. Я свесился из окна и посмотрел вниз. О чудо! Не сон ли это? Я увидел террасу, о которой не подозревал, потому что она была скрыта нежной зеленью апельсиновых деревьев, девушку в белом платье, игравшую на арфе, и старика в черном; он стоял на коленях и молился. Книжка выпала у меня из рук.
Я спустился вниз к жильцам, хозяевам террасы. Старик оказался реформатским пастором, который предпочел своей холодной тюрингской родине изгнание в нашей теплой Бургундии. Арфистка, хрупкая белокурая красавица лет семнадцати, томная и грустная, была его единственным детищем, а книжка, о которой я рассказал им, оказалась лютеранским требником с гербом одного из принцев Ангальт-Кутен.
– Ах, сударь! Не будем тревожить не остывший пепел! Элизабет теперь уже подобна Беатриче в лазоревом одеянии. Она умерла, сударь, умерла! И вот требник, над которым она склонялась в робкой молитве, и роза, которой касалось ее чистое дыхание! – Цветок увядший, еще не успев распуститься, как и она сама! – Книга закрытая, как и книга ее судьбы! – Благословенные реликвии, которые она и в вечной жизни узнает по тем слезам, что оросили их, когда труба архангела разобьет надгробие на моей могиле и я устремлюсь над мирами к моей боготворимой деве, чтобы воссесть наконец рядом с нею у престола Господня!..
– А искусство? – спросил я.
– То, что в искусстве представляет собою чувство, я в муках познал. Я любил. Я молился. – Gott – Liebe, Бог и Любовь! – Но то, что в искусстве представляет собою идею, по-прежнему только возбуждало мое любопытство. Мне показалось, что дополнение к искусству я найду в природе. И я стал изучать природу.
Я выходил из дому утром и возвращался лишь вечером. То, облокотясь на парапет разрушенного бастиона, я долгие часы с наслаждением вдыхал дикий, волнующий запах лакфиоля, золотистые цветы которого рассыпаны по плющу, окутывающему мантией древний феодальный городок Людовика XI; то наблюдал, как видоизменяется мирный пейзаж от порыва ветра, от солнечного луча или внезапного ливня, любовался, как в лесочке, пестрящем светлыми бликами и тенями, гоняются друг за дружкой жаворонки, как дрозды слетаются с пригорков и клюют виноград с таких высоких лоз, что в них мог бы спрятаться олень из басни, как грузные вороны собираются с разных сторон к остову коня, оставленному живодером в какой-нибудь зеленеющей лощине; то прислушивался к тому, как прачки гремят вальками на берегу Сюзоны и как мальчик напевает жалобную песенку, вращая у крыльца станок сапожника. – То я вдали от города прокладывал для своих мечтаний тропинку, устланную мхом и росою, безмолвием и покоем. Сколько раз я срывал багряные горькие гроздья в колдовской чаще возле источника Юности и пустыни Нотр-Дам-д'Этан, у источника Духов и Фей, у Чертова скита! Сколько раз находил я на каменистых высотах Сен-Жозефа, размытых грозами, окаменелые раковины и кораллы! Сколько раз ловил раков в тинистых бродах местных речушек Тии среди равнодушных кувшинок, среди водорослей, где прячется застывшая саламандра! Сколько раз наблюдал я за ужом на топких берегах Солоны, где слышится лишь однообразный крик лысухи да унылые вздохи гагары! Сколько раз свеча моя озаряла подземные пещеры Аньера, где со сталактитов медленно стекает неиссякающая капля клепсидры веков! Сколько раз трубил я в рог на отвесных утесах Шевр-Морта, когда дилижанс тяжело подымался по дороге футах в трехстах ниже моего убежища, скрытого туманом! И даже ночами, летними благоуханными светлыми ночами, сколько раз бродил я, как оборотень, вокруг костра, разведенного на пустынной, заросшей лужайке, – пока дубы не дрогнут от первых ударов дровосека! Ах, сударь, как сладостно уединение для поэта! Я был бы счастлив, если бы мне дано было жить в лесу и нарушать его покой не больше, чем птичка, утоляющая жажду в прозрачном ключе, чем пчелка, пьющая сок из ягоды боярышника, чем зрелый желудь, падающий сквозь листву.