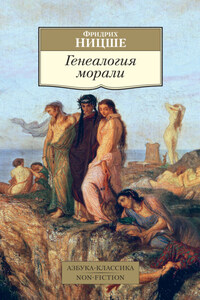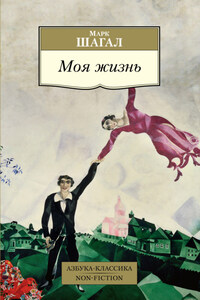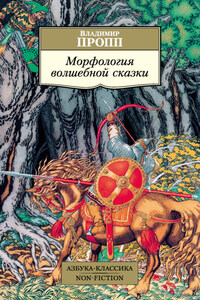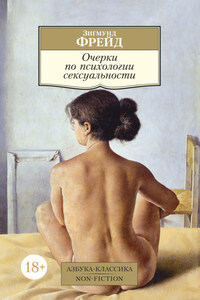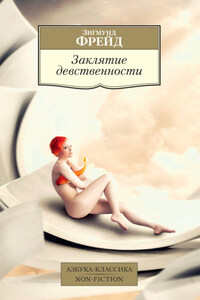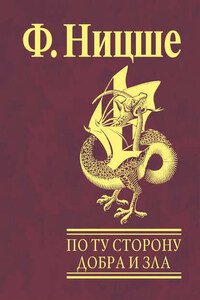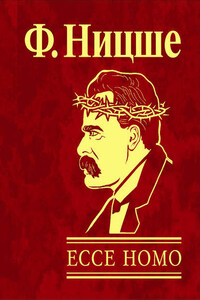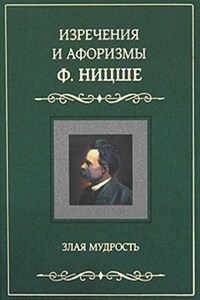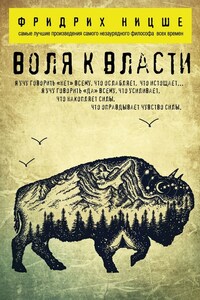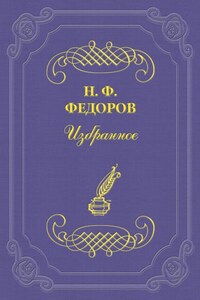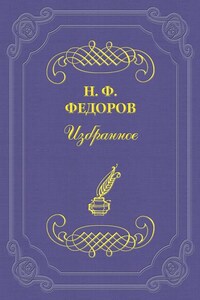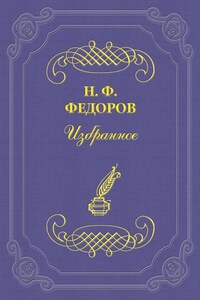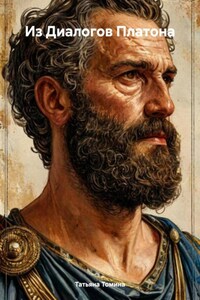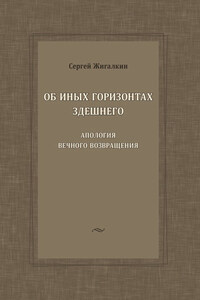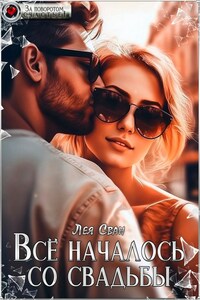1
Мы не знаем себя, мы, познающие, не знаем сами себя: это имеет свою вескую причину. Мы никогда не искали себя – как же могло случиться, чтобы мы нашли себя? Справедливо сказано: «где сокровище ваше, там и сердце ваше»; сокровище наше там, где стоят ульи нашего познания. Мы, как пчелы, как собиратели меда духовного, стремимся всегда к одному, заботимся, собственно говоря, искренне только об одном – принести что-либо домой. Кто из нас относится достаточно серьезно к жизни вообще, к так называемым «переживаниям»? Есть ли у нас на это время? Этими вещами, я боюсь, мы никогда не занимались как следует: не лежит к этому наша душа и наш слух!
Как рассеянный и ушедший в себя, когда в полдень часы бьют над его ухом двенадцать, просыпается и спрашивает себя «сколько, собственно говоря, били часы?», – так и мы почесываем у себя за ухом и растерянно, с изумлением спрашиваем: «что же, собственно говоря, мы пережили?» Мало того, мы недоумеваем: «что же мы, собственно, такое?»
Мы пересчитываем задним числом все двенадцать часовых ударов наших переживаний, нашей жизни, нашего бытия – ах! И обсчитываемся при этом… Неизбежно мы остаемся чуждыми себе, мы должны ошибаться в себе всегда, в силе остается для нас положение: «каждый наиболее чужд себе самому». По отношению к себе мы не являемся «познающими»…
2
Мои мысли о происхождении наших нравственных предрассудков – о них будет речь в этом полемическом сочинении – были впервые вкратце изложены в том собрании афоризмов, которое носит название «Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов». Начал писать я эту книгу в Сорренто, зимою, когда мне удалось остановиться, как останавливается путник, и окинуть взглядом обширную и опасную страну, по которой до той поры странствовал дух мой. Это было зимою 1876–1877 года; сами мысли старше. В главных чертах это были мысли, подобные тем, которые я вновь разрабатываю в этой книге, – надеемся, что долгий промежуток был им на пользу, что они стали более зрелы, ясны, сильны, совершенны! Но то обстоятельство, что я придерживаюсь их еще в настоящее время, что сами они за это время все более сливались между собою, вросли друг в друга и срослись, – это укрепляет во мне радостную уверенность, что они с самого начала возникли во мне не разрозненно, не произвольно и случайно, но произошли от общего корня, глубокой потребности, основной воли познания, заявляющей все определеннее, требующей все более определенного. Только это достойно философа. Мы не имеем права быть в чем-нибудь разрозненными: мы не можем не заблуждаться в розницу, не находить истину. С той неизбежностью, с какою дерево приносит плоды, растут из нас наши мысли, наши произведения, наши «да» и «нет», и «если», и «кабы» – все родственные и связанные друг с другом и свидетели одной воли, одного здоровья, одной страны, одного солнца.
– Понравятся ли вам эти наши плоды?
– Какое дело до этого дереву! Какое дело до этого нам, философам!..
3
При свойственных мне сомнениях, в чем я неохотно сознаюсь, по отношению к морали, ко всему, что до сих пор славилось на земле как мораль, при сомнениях, которые возникли у меня так рано, так независимо, неудержимо, вразрез с окружающим, возрастом, примером, происхождением, что я мог бы почти с правом сказать, что это мое «a priori»[1], – мое любопытство, равно как и мои подозрения, должны были со временем остановиться на вопросе, откуда, собственно, ведут свое начало добро и зло. И действительно, тринадцатилетним мальчиком я занимался уже проблемой о происхождении зла. Этой проблеме я посвятил в возрасте, когда «сердце занято наполовину игрою, наполовину богом», мою первую литературную детскую работу, мое первое философское упражнение. Что касается моего тогдашнего «решения» проблемы, ну, я воздал, как и следовало, богу честь и сделал его отцом зла. Требовало ли этого от меня мое «a priori», то новое безнравственное или по меньшей мере ненравственное «a priori» и говорящий в нем, увы, столь антикантовский, столь загадочный «категорический императив», к которому я в то время все больше прислушивался, и не только прислушивался?..
К счастью, я своевременно научился отделять теологический предрассудок от нравственного и не искал более источника зла позади мира. Небольшой исторический и филологический навык, в связи с врожденной разборчивостью относительно психологических вопросов вообще, вскоре обратили мою проблему в другую: при каких условиях изобрел человек эти определения, ценности, добро и зло? И какую они сами имеют ценность? Тормозят они или содействуют процветанию человечества? Являются ли они признаком нужды, бедности, вырождения жизни? Или, наоборот, проявляется в них полнота, сила, воля к жизни, ее бодрость, уверенность, будущность?
На эти вопросы я нашел, я имел смелость дать разные ответы, я различал времена, породы, разные достоинства индивидов, я специализировал свою задачу, ответы обращались в новые вопросы, исследования, предположения, вероятности. Наконец я приобрел собственную область, собственную почву, целый скрываемый, развивающийся, цветущий мир, подобный тайным садам, о которых никто не должен был ничего подозревать… О, как счастливы мы – мы, познающие, при том, конечно, условии, если мы умеем достаточно долго молчать!..
4
Первый толчок обнародовать кое-что из своих гипотез относительно происхождения морали дала мне ясная, опрятная и умная, старчески умная книжечка, в которой я впервые ясно наткнулся на своеобразную английскую разновидность генеалогических гипотез наизнанку, и это привлекло меня тою притягательною силою, какой обладает все противоречащее, все противоположное. Заглавие книжки было «Происхождение нравственных восприятий», автор д-р Рэ (Paul Rée); год издания 1877-й. Может быть, мне никогда не приходилось читать что-либо, где до такой степени, как в этой книге, на каждую фразу приходилось говорить про себя «нет»; но делалось это без раздражения и нетерпения.
В указанном раньше произведении, над которым я тогда работал, при случае я касался положений этой книжки, не опровергая ее – какая мне надобность опровергать! – а, как подобает положительному уму, ставя вместо невероятного более вероятное, а иногда и вместо одного заблуждения другое. Тогда, как сказано, я впервые обнародовал те гипотезы о происхождении морали, которым посвящена эта работа, делая это неловко – меньше всего желал бы я скрывать это от самого себя, – еще несвободно, не выработав еще своеобразного языка для этих своеобразных вещей, часто сомневаясь и колеблясь.