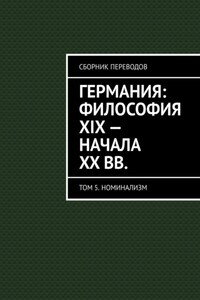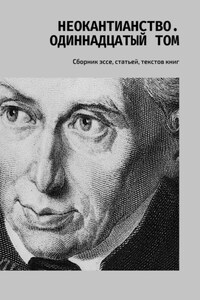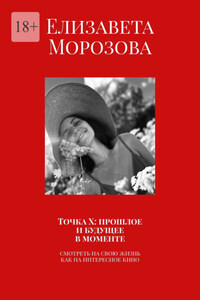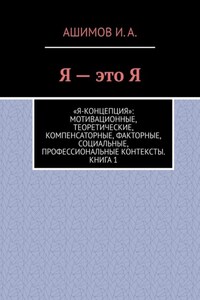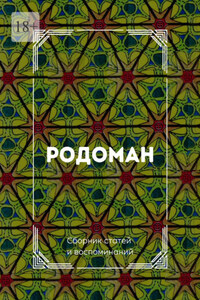1. Беспокойное обучение, недостаточно регулируемое хромым мышлением и еще менее связанное моральными целями, то есть антитеза мудрости и философии, достойной своего имени, характеризует не только Демокрита, но еще более софистов, фактических выразителей духа морального и интеллектуального безделья, сопровождавшего рост материального благосостояния в греческих городах после Персидских войн. Их уместно называть мыслителями Просвещения Древней Греции и сравнивать с французскими энциклопедистами. Просвещение, как название господствующей в прошлом веке школы мысли, – это прояснение того, что лежит сверху, ценой затемнения того, что скрыто под поверхностью, поощрение неглубокого рассуждения, с помощью которого автономный субъект может со всем смириться, и развенчание основ, которые интеллектуальная работа имеет в традиции, религии, авторитете и моральном законе.
Чтобы освободить место для своего произвола, софисты-просветители подорвали все основы древнегреческого этоса, из которого нация черпала силы для великих свершений в Персидских войнах; в первую очередь религию и правовую теологию. «В софистической литературе мы встречаем все оттенки религиозного свободомыслия: от осторожного скептицизма Протагора, который утверждал, что ничего не знает о богах, до антропологических и натуралистических объяснений веры в богов у Крития и Продика и, наконец, до откровенного атеизма Диагора из Мелоса».1 Протагор начал свою работу по религиозному просвещению со слов: «О богах я не в состоянии знать, есть ли они или нет, ибо многое мешает нам это узнать: неясность предмета и краткость человеческой жизни». Афинские власти, однако, заняли позицию Залеукоса по отношению к этой новой мудрости, изгнали сильного духом человека, велели глашатаям собрать все проданные экземпляры книги и сожгли их на рынке. Разнообразие религий дало софистам прекрасную возможность представить их как вытекающие из местных законов. «Боги», – учили они, – «были продуктами искусства (techne), а не природы (physei), но были введены законами (nomois), одни здесь, другие в другом месте, в зависимости от того, о чем договорились законодатели».
Физики уже утратили понимание законной теологии, но все еще сохраняли связь с мистико-физическим учением о Боге, поскольку их arche [первопринцип – wp] все еще несет в себе черты внутримирного божества; их основная идея о том, что единое существует во множестве, вечное в изменении, по своей сути является религиозной; софисты также разрывают эту связь. С учением Горгия о том, что ничего не существует вообще, устраняется и последний остаток идеи изначального бытия. Точно так же покончено и с мистическим учением о бессмертии; Протагор отрицает субстанциональность души, которая есть ничто «помимо своих ощущений», то есть просто «пучок идей», как выразился один из современных современников софиста.
Для софистов священные дисциплины могли рассматриваться только как поле для полимафии, как пища для их занятых интересов. Математика была для них слишком сложной; удобнее, чем ее изучение, было утверждать, что ее теоремы стоят меньше, чем правила для плотников и сапожников, потому что она не дает указаний, как правильно поступать. Они также оставляли в стороне более серьезное изучение природы, а Горгий и вовсе отрицал его ценность. С другой стороны, они приветствовали естественную историю и исторические вопросы как материал для популярных ораторских выступлений. Гиппиас позволил себе читать лекции по математическим дисциплинам, истории героев и основания городов, а также по археологии, одновременно давая инструкции по изготовлению обуви и одежды.
То, что софисты лишены всякого исторического чувства, кроется в природе их школы мысли; Просвещение всегда неисторично, потому что видит в каждой традиции препятствие для самоопределения личности. Но оно не гнушается интерпретировать или фальсифицировать историю в своем собственном смысле. Именно так софисты поступили с доисторией, чья изменчивая традиция все равно давала простор для фантазии. Критий особенно выделяется своим описанием первобытного человека, который жил на манер животных, пока умные люди не придумали законы, а еще более умные люди не изобрели веру в богов в дополнение к законам – излюбленная тема философов Просвещения прошлого века, так же как тенденция видеть в человеке возвышенное животное всегда возникает там, где затушевывается идея человеческого достоинства и его основания в Боге.
2. Не софисты должны были превозносить такое знание как мудрость, поскольку их имя само по себе перекликается с именем мудреца и раньше использовалось как синоним слова sophos. Их истинное отношение к мудрости было раскрыто Платоном во многих отрывках его диалогов, а Аристотель смог дать поразительное определение: «Софистика – это иллюзорная мудрость, которая на самом деле не является мудростью, а софист – это человек, который ведет дела с этой иллюзорной мудростью, которая не является мудростью». Их учение о мудрости также является притворством; они восхваляли добродетель в напыщенных речах, даже провозглашая себя учителями добродетели, не без использования двойного значения слов arete, которое означает и добродетель, и мастерство, и deinos, которое означает и мастерство, и внушительность. Ориентиром для мудрости и добродетели служили выгода, власть и удовольствие.
Как и в случае с религией, так и в случае с моралью, они сделали объектом своих нападок правовой элемент, причем на тех же основаниях. Законы различны в разных местах и в разное время, поэтому являются лишь продуктом законодателей (nomoi), но не physei, по природе, то есть основаны на природе человека и обстоятельствах. Согласно Гиппиасу, божественный или естественный закон должен быть неизменным и самодостаточным; однако такого нигде не найти, и, следовательно, это просто воображение. То, что называется законом, учил Фрасимах, было придумано правителями, а его неизменность лишь притворялась перед подданными, чтобы держать их в узде.
Софисты также использовали контраст между nomoi и physei для отрицания достоверности знания, подобно тому как Демокрит учил, что восприятия – это nomoi. Протагор воспринял гераклитовское учение о потоке вещей и впечатлений и пришел к известному предложению, которым он открыл одно из своих сочинений: «Мера всех вещей – человек, тем, что есть, он измеряет бытие, тем, что не есть, он измеряет небытие». Он также учил, что все истинно, и в этом смысле Эвтидем говорил, что истина принадлежит относительному, что все принадлежит всему; нельзя ошибаться, ибо даже то, что мыслится неверно, истинно и тогда, когда мыслится действительно.