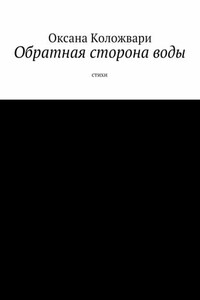Он всегда просыпался чуть раньше, то есть – без одной минуты до звонка будильника. Он думал иногда, что можно и вовсе не включать будильник, все равно он проснется вовремя, привычно сунет руку под подушку, достанет сотовый телефон, отключит звонок, и сразу встанет. Но ему казалось, что если он не выставит время (впрочем, всегда одно и то же), и не включит сигнал, то и не проснется, словно давал задание не электронному устойству, а самому себе. Почему-то он не пытался проверить всё это в какой-нибудь выходной день, когда встать точно по времени было не принципиально важно, и все равно просыпался точно в шесть часов пятьдесят девять минут, и доставал телефон из-под подушки, и отключал сигнал звонка. И отключал сигнал звонка, и в это же время начинал слышать шелест машин на улице, утренний лай собак на прогулке, шумное дыхание матери за стеной, хлопанье чьей-то двери в подъезде и гудение лифта. Все это мешало, последние несколько дней мешало очень сильно, потому что внутри него билось, ворочалось и вылезало неровными строками что-то новое. То «дорога», то «невозможность вернуться», но не желаемая и не достижимая возможность, а правильная нужная невозможность. И все вокруг казалось слишком ярким, слишком громким, слишком пахнущим, слишком отвлекающим внимание от того, что внутри. Словно он хотел сесть и смотреть внутрь себя, а его дергали за плечо, и заставляли поднимать голову, и рассматривать ненужные подробности на горизонте. На горизонте.
Вода пахла хлоркой, зубная паста была слишком мятной, то, что мать ходила там, в коридоре, в халате, со смятыми волосами и заспанным лицом, было неприятно. Он сел за стол, она сунула ему тарелку с яичницей, сдвинув скатерть складкой, и он педантично приподнял тарелку и
разгладить карту на столе, руками ощутить подобье
выпала наружу первая строка. И немного отпустило напряжение, он был теперь уверен, что путь начался. Это всегда, кроме мучения и удовольствия, кроме мучительного удовольствия, было ещё и чем-то, что он зорко и заинтересовано наблюдал со стороны, отмечая все мелкие зазубринки в пространстве, за которые цеплялась и вытаскивалась наружу очередная строка. Вот как сейчас. Мать сидела очень напряжённо и ровно, свет от лампы над столом освещал затылок наклонённой головы, в ярком свете её отросшие у корней серой сединой волосы светились, сияли, а на плечах лежала синяя утренняя полупрозрачная тень полукругом. Она смотрела в газету с кроссвордом, но перевёрнутым кверху ногами, и водила по клеткам пальцами, всё быстрее и быстрее, странными рваными движениями, словно они были выпуклыми перегородками между ячейками, эти чёрные пустые клеточки, потом начала прочерчивать ногтём квадратики. Он знал, сейчас она прорвет тонкую серую бумагу и сорвется окончательно, и стал есть быстрее, чтобы быстрее сбежать. Она взглянула на него не поднимая головы и произнесла глухо и прерывисто, сглатывая после каждого слога:
– Пой-дёшь? Дааа? – усиливая громкость, – Ты пой-дёшь?!
вести ногтем по руслу рек
И он быстро встал, на ходу запихивая желток, который он любил больше, и всегда оставлял напоследок, ставя грязную посуду в раковину, быстро, быстро, она начинала почти кричать, и ему казалось, что он уворачивается от этого осязаемого крика.
поглядывая исподлобья
Она уже встала и взмахнула рукой с газетой, задела абажур, круглый столп света мазнул по кафельной стене, опрокинулся в другую сторону, он оглянулся и поймал взглядом светящийся бок синей эмалированной кастрюли на плите, всего на мгновение.
на смуглый что-то (что?) в темноте с атласным бликом
С бликом, бликом… Чего? «Вот чего там будет, того и блик», подумал он.
– Холодная скотина! – прокричала мать из кухни.
Антарктиды
на смуглый глобус в темноте с атласным бликом Антарктиды
Он выпрямился, вытащив пальцами смятые задники обеих кроссовок, в которые сунул ноги одновременно, повернулся, засовывая руки в рукава куртки, хватая собранный с вчерашнего вечера рюкзак, мать стояла посреди кухни, успокаивая рукой пляшущий абажур, и когда он выскочил на площадку, быстрый стук каблуков соседки с пятого, мерные шаги ее мужа, ее голос «а в Плоском Мире Диск стоит на черепахе т’Атуин» наложился на фигуру матери с воздетыми вверх руками и на мелькнувший рисунок из, наверное, школьного учебника истории.
а мне милее все же те атланты и (как их звали? этих женщин?) кариатиды
что держат диск над головой
И он вертел и крутил эти строки в голове, пока ехал в метро, восходил по ступеням крыльца в Университет. Там было шумно, но уже все равно, потому что внутри разворачивалось, как пружина.
а мне милее все же те атланты и кариатиды,
что держат диск над головой.
Дальше нужна была логика, уже логика, он это ясно чувствовал, потому что начались вопросы. Дальше необходимо было говорить, почему, почему…
мне проще верить их служенью,
Почему? Почему не круглый глобус, а эта плоская, стоящая на… черепахе т’Атуин? Ряд глобусов, местами ободранных и пострекавшихся, на шкафу школьного кабинета географии. Преподаватель, там, внизу, на дне воронки лекционного зала, маленький человек в мятом костюме, что-то бубнил, зал шелестел страницами конспектов, было прохладно, от огромного окна тянула морозным уличным воздухом, но он словно погружался в гудящее знойное марево: ряд глобусов в темном кабинете географии, когда он закончил вытирать доску и выключил свет, и уходил в тишину пустой школы, закрывая за собой дверь, медленно закрывая за собой дверь; сужающийся до треугольного языка свет из школьного коридора на коричневом линолеуме класса, исчезающий свет, тьма поглощающая ряд глобусов; он приоткрыл дверь, полоса расширилась до прямоугольника, медленно потянул дверь на себя, сузив до полоски, до ленты, до тонкой нити, вспыхнул торчащий на искривлённой проволоке маленький шарик фальшивой луны на модели, стоящей у самого края.
чем этой круглой, неживой, неверной окруженной тенью,
и этой призрачной луне, скользящей по кривой орбите
в ночи, в безмолвии, во тьме.
Он не любил, когда предложение обрывалось посередине строки, но что он мог с этим сделать? Что от него зависело? Просто выговаривалось именно так. И он бормотал, крутил так и сяк, опять и опять, жуя пирожок с тепловатым столовским кофе, выходя в мороз и ветер, спускаясь в метро, он ехал к отцу, он знал, что там будет обед, точнее ранний ужин, или поздний обед, в общем еда, но он не мог, не хотел быть совсем голодным. Потому что там была жена отца, его новая молодая жена. И он очень хотел выглядеть серьёзныйм, уверенным, спокойным, и не голодным. Всё снова замерло, слова перестали отзываться изнутри, ворочались тяжёлым комом, слепленные где-то в животе, какие-то проблески света, туманы, снега, и сияния над ними в тёмной ночи. Темнело рано, когда он подходил в дому отца, уже загорелись фонари. Подъезд показался ему ослепительно ярким, чистым, теплым, как всегда, когда он раз в месяц, не чаще, приходил к отцу. И консьержка не спрашивала, куда он идет. И лифт был каким-то нарядным, сверкающим. И тут было тихо, но всё равно что-то мешало.