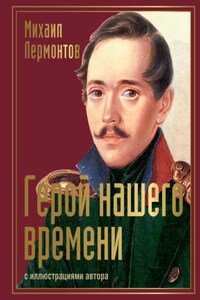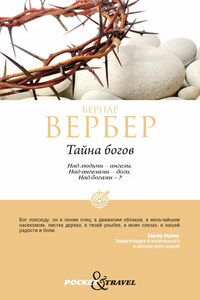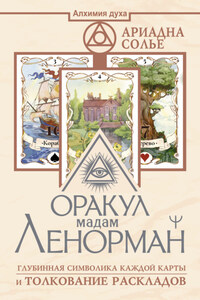…Он не год сидел, не два года.
Отпустил свою бородушку
До самого шелкова пояса;
Он по светлице похаживает,
Табаку трубку раскуривает.
Он поет песни, как лес шумит:
«Уж талан ли, мой талан худой,
Или участь моя горькая!..»
Народная песня
Спустя несколько лет после рассказанной мною истории с Чахрой-барином пришлось мне поселиться в Больших Прорехах надолго: я задумал построить на земле своей племянницы хутор. На все время, пока заготовляли материал для стройки, пока строилась сама изба, я должен был поселиться у кого-либо из прорехинских крестьян. С бывшим моим арендатором дела у меня расстроились (он мне иногда, как будто не нарочно, забывал даже кланяться, а если иногда и кланялся, то снимая нехотя картуз и не кивая головой); знакомые старики мои почти все примерли; умер, как вы знаете, Чахра-барин с «огорчениев», умер и Ареф, давно уже замерший заживо (говорят, «он и не слыхал, как умер», да и никто не слыхал, только уж сутки спустя хватились окликать его, а он лежит на печи и голосу не подает: «моща, так моща и есть»); умер и высокий старик кузнец с ребячьей головой и детским лицом «скоропостижно», после драки с сыном; умер и Самара, умевший ловко таскать у внука из бутылки водку, а после добавлять водой, но Самара, по крайней мере, оставил после себя приятеля. Кабана, до такой степени схожего с собой, что как будто он вовсе и не умирал для прорехинского мира. Когда и жив был Самара, так их с Кабаном почти что не различали.
Вот у этого-то «старого Кабана» и привела мне судьба поселиться. Поселился я у него прежде всего потому, что изба у него была если не больше всех других, зато двухэтажная, в три окна, с порожним верхом, и притом самая красивая во всем селе. Очевидно, строилась она напоказ и «в свое удовольствие». Крыша железная с вычурными водостоками; двор крыт тесом и крашен, вместе со всею избой, в темно-коричневый цвет; окна узорчатые. Через улицу, против окон, стояла житница, тоже узорчатая, с крашенными в тот же цвет бревенчатыми стенами, с ярко блестевшею зеленою железною дверью, вся новая и крепкая. Житница эта резко выделялась от своих дряхлых соседок, а в особенности от одной из них, переделанной в жилую избу, с двумя крохотными оконцами. То была изба Степаши, дочери покойного Чахры-барина. Я очень был рад этому соседству. Мне хотелось узнать поближе, как живет Степаша.
Впрочем, позвольте мне сначала поближе познакомить вас с Кабаном.
Кабан был мужик среднего роста, плотный, мускулистый, приземистый, так что его большая голова как будто несколько была вдвинута в плечи. Сивая круглая борода и довольно тщательно расчесанная, с пробором посередине, серебристая голова придавали ему очень благообразный вид, тем больше что одевался он чисто: кувшинные сапоги были всегда вымазаны, ситцевые рубахи и порты только что выстираны (от них всегда несло даже серым мылом). Но все это «благообразие» как будто было не его, не родное, а взятое напрокат, парадное. Наблюдали вы ребенка, когда наденут на него «обновку» и он еще не успел с ней освоиться? Таким же, постоянно смущенно улыбающимся, осторожно поскрипывающим сапогами, конфузливо выступающим и думающим, что все на него смотрят, был Кабан. «Не замарай рубашку, не запыли сапоги, не всклочивай голову!.. Ходи ровнее, не бегай, будь паинька… Теперь ты уж большой!» – говорят ребенку, – и ребенок, не чувствуя в глубине души, чтоб он действительно сразу стал «большой», силится послушанием уверить себя и других, что папаша и мамаша не ошибаются. Если это забавно выходит в ребенке, то, понятно, еще забавнее у старика в 60 лет. А Кабан был именно таков. Войдет, бывало, ко мне наверх, слегка поскрипывая сапогами, пригладит голову, сядет напротив меня, сложит на животе руки и смотрит прямо в лицо как будто чуть-чуть, не постоянно смеющимися серыми глазами.
Так и хочется его спросить: «Что, Листарх Петрович, загнали, брат, тебя в чистые хоромы да в новые сапоги? Неловко, должно, тебе?»
Да и к своей красивой новой избе, ко всему своему хозяйству он относился как-то чрезвычайно странно, как будто все это было не его, не родное, не хозяин он тут, а только дворецкий.
– Видишь, какая у нас усадьба-то теперь… А ведь прежде-то у меня здесь что было? Хибарка, Миколаич, малая хибарка, колышками подперта, ветерком продута, в три слепых оконца, в соломенной шапке… Да, – говорил он мне, когда, на третий день по приезде моем, показывал он мне свою усадьбу, – и что сталось, что сталось-то, ты погляди!.. Ах, господи! До сих пор в ум не приду, ей-богу, не приду!.. Словно, братец, меня ушибло… Гляжу-гляжу на эти хоромы-то – и ума не приложу: ровно как будто сплю я все, грежу… Ей-богу!.. Бывало, братец, работаешь до десятого поту, спина трещит, ноги ноют, ломит, живот ведет, ты бы поесть, ан одна тюря[2]; того пуще брюхо-то пучит… Беднота была, голь… Ах, братец, шибко тяжело было!.. И что сталось, что сталось! – причмокивал Кабан, покачивая головой. – Ну, чего мне теперь нужно? Все есть… Захотелось спать – ложись, хочешь на печку, хочешь на перину… В кладовой вон их две лежат по двадцати пяти рубликов штука стоила!.. Да подушек там же полдюжины пуховых хранятся… Ну?.. Есть захотел? Вот тебе сладкий кус, какой хочешь… Гороху, што ли? – и горох будет… Судака соленого закусить? – и судак будет… Разгуляться захочешь? – вот они, два коня стоят… Бери жеребца и поезжай, куда душа тянет… Да никуда, братец, не тянет, вот беда-то! Я уж и хотеть-то не знаю чего придумать! Ей-богу! Иной раз, признаться тебе сказать, тоскую… шибко тоскую… Никогда этого со мной прежде не бывало!
– Да ведь ты и теперь работаешь, Листарх Петрович; с чего же тебе тосковать?
– Работаешь!.. Разве это работа? Так, баловство… Бивало вот, работал, точно, как тюрю-то ел… Летом-то преешь-преешь, да и зимой-то, и в стужу, и во вьюгу, за одром своим треплешься… Мы в извоз[3] тогда хаживали… А теперь… – и тут Кабан сокрушенно махал рукой, – больше ничего, как одно баловство… Хотел было, братец, раньше-то еще, от тоски, по-прежнему, туда-сюда сунуться: земли хотел взять побольше, в извоз было собирался… Ну, не допустили!
– Кто ж тебя не допустил?
– А все господа-то мои: сынок с невесткой… «Да ты, – говорят, – тятенька, сделай милость уж, нас не ерами… Пожалуйста, не срами… Чего тебе недостает? Что ты бога-то будешь гневить? Он нас, милосердый, взыскал, а ты недовольством своим его огорчать будешь? Ты одно знай – честь нашу держи… Смой с, себя черную-то образину!.. А уж ежели тебе тоскливо, ну лавочку открой, так, для веселья, и грош лишний перепадет»… Ну, я этим ремеслом николи не занимался… Так вот и остался, что боров откормленный, – жир только нагуливать.