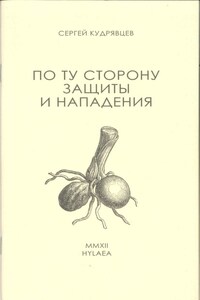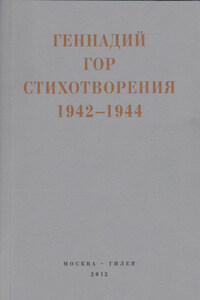Гора строительного мусора – битого кирпича пополам с обломками бетонных перекрытий внутри полуобрушенного остова старинного четырехэтажного здания с эркерами, французскими балконами и выгоревшими узкими окнами, была именно такой, какую искал Розенберг – высилась под торчавшими из стен балками, точно на дне колодца, и восходящая пустота над ней полнилась сиянием утреннего солнца, бившего в проемы окон. Велев рабочему ждать, Розенберг или Роза, как называли его в этом городе тридцать и даже сорок лет назад, осторожно поднялся на самый верх. Там он постоял, озираясь в клубившейся солнечной пыли – высокий мужчина в темных очках и легком плаще, уместном в это холодное лето. Все было так, как пожелал Фрей: модель – человек с собакой – должна была идти, оступаясь, по этим камням навстречу заре. Розенберг пошел назад, стараясь не вдыхать запахи гари и нечистот, преследовавшие его после Боснии, – Поехали, – сказал он, сильно заикаясь, рабочему, – Тут снимать запрещено, нужно разрешение – здание аварийное. Охраняется милицией, – Отнеси им двести долларов, – сказал Розенберг. Он вытащил бумажник, дал деньги рабочему, прошел за ограждения и сел в машину. Он не был в городе лет пятнадцать, с тех пор, как похоронил отца, и теперь разглядывал сквозь ветровое стекло полуразрушенные исторические здания, убогие вывески одноэтажных магазинов, высившуюся впереди башню собора (путь от вокзала в город, проделанный им сотни раз), и думал, что Фрей был прав: умиравший столько, сколько он помнил себя, город превращался в развалины, в гибнущий мир, из которого жизнь упорно не желала уходить. Для съемок нужны были нежилая квартира с высокими потолками, дверьми с разбитыми косяками, чугунной ванной у стены в большой комнате (так было в постановочном плане), подъезд с широкими лестничными маршами и подоконником у высокого окна в узкий двор (в таком доме на Рымарской вырос Розенберг); фотограф на пробы, студийный свет, аккумуляторы, визажист и модели – мужчина и четыре женщины возрастом за пятьдесят, которых Фрей намеревался снять в серии для Венецианского бьеннале иначе, чем Олаф,[1] о котором он рассказал Розенбергу – не старухами от bourgeois bohemian[2] в корсетах и в белье от Calvin Klein, а старящимися любовницами, живущими в развалинах прошлого. Так было написано в синопсисе[3] и так Фрей объяснил Розенбергу, с легким раздражением глядя на его приоткрытый рот и не будучи уверен вполне, что здоровенный, с виду медлительный, Розенберг точно понимает, что от него требуется. Под конец он сунул Розенбергу журнал с «Mature» и несколько фотографий Лобанова.[4] Это было не единственным поручением. Розенберг должен был повидать Ходоса,[5] главу городской еврейской общины, передать ему письмо некоего Хильштейна и привести ответ. Розенберг часто выполнял поручения людей, которых не видел в глаза, но исправно плативших деньгами или покровительством ему, рослому сильному мужчине, в котором, не смотря на возраст, было что-то мальчишеское – приоткрытый рот, вопросительно-выжидательное выражение синих глаз на костистом, веснущатом лице – не вязавшееся со слухами о его занятиях: рэкетир и, как поговаривали, наемник, а теперь совладелец крошечного магазина, почти лавчонки в Хайфе, просиживавший перед ней дни, покачиваясь на стуле и провожая глазами женщин – загорелый, в шортах и кожаных сандалиях на босу ногу, точно зажиточный французский еврей из тех, кто в последние годы наводнили город. Он прожил в Израиле больше десяти лет, последние пять – с маникюрщицей марокканкой, некогда изящной, точно эбеновая статуэтка, а теперь располневшей и говорливой, равнодушный к ее стряпне, ярким платьям и тяжелым украшениям, толком не посмотрев страну, ни разу не войдя в синагогу. Радио и израильских газет (он кое-как выучился читать на иврите) ему было достаточно. Когда Фрей предложил ему работу, он рассудил, что охранять съемки и развозить девчонок лучше, чем торчать у магазина или на море. Он жил день за днем, не вспоминая прошлое, думая о нем не больше, чем о будущем – днями, исполненными праздности, почти не отличавшимися друг от друга – утренний шум мусоровоза, фонарь, горевший в светлевшем небе, полосатые отсветы на стене, на женском теле в постели, днем – неколебимый зной, нисходивший с синего неба на утопавшие в тропической зелени дома; вечерами – телевизор, виски, к которому он здесь пристрастился, шумные вылазки в Тель-Авив или в рестораны на набережной, изредка – партийные съезды, реже – свидания в глубине крошечных кофеин или в закоулках рынков с обросшими людьми в кипах или шляпах по шестьсот долларов, в взопревших грязных майках или рубахах, расхристанных по жаре.
Прошлое было тем, от чего он уходил, когда наступало время или место исчерпывало себя, будто расписавшись в том, что жизнь снова не оправдала надежд, не стоила затраченных усилий.
Пятьдесят лет назад, в кровь избитым мальчишкой он позвонил в дверь известного боксера, жившего неподалеку, а когда тот открыл, выдавил: – Я пришел, чтоб стать похожим на вас! – Эта пламенная искренность и святая вера в кулачную отвагу, как в способ одолеть жизнь в рабочем городе с тяжелым укладом, в котором долговязому еврейскому парнишке было лучше не уметь читать, чем драться, открыли ему двери в большой бокс. Розенберг не преуспел в нем; но в последующие двадцать лет ринг стал его жизнью, а зал в полуподвальном помещении, хоральной синагоги, ныне возвращенной городу – его alma mater. Он возлюбил этот мирок всей душой, больше дома, больше города, перестававшего существовать вне стен, на которых крепились пневматические груши и зеркала; ему он отдавал всего себя – запахам канифоли и пота, дроби и рокоту снарядов под забинтованными кулаками, боям и боли, которую он научился принимать так, чтобы тут же забывать о ней. Он понял, что пора уходить, дважды проиграв нокаутами, не поколебавшими, впрочем, его духа, не поднявшись выше чемпиона Кубка Союза, республики и двух универсиад. «А, Роза! Привет, Роза! Как поживаешь, Роза?» – первые годы вне зала его хлопали по плечу и отходили, когда он силился ответить; потом он осознал силу молчания, так же, как позднее – страшную силу своих кулаков в жесточайшей уличной драке – молчания, действовавшего сильней криков, угроз и доказательств. Именно эти качества – терпение и молчание – предопределили его судьбу в не меньшей степени, чем стойкость и способность без рассуждений принимать все, как есть, жить, как живется, пока жизнь давала такую возможность.