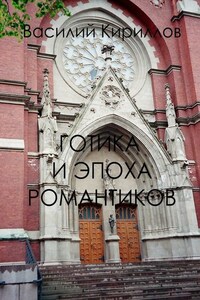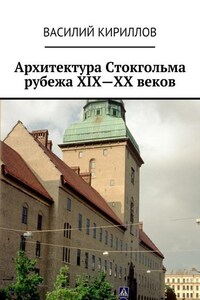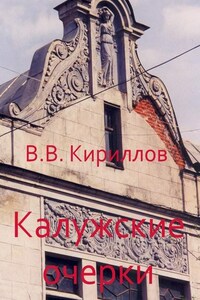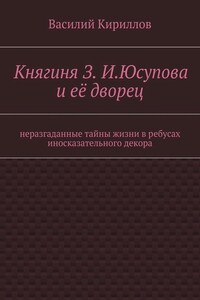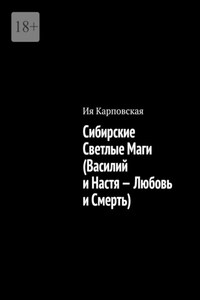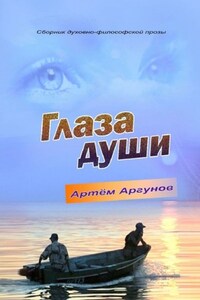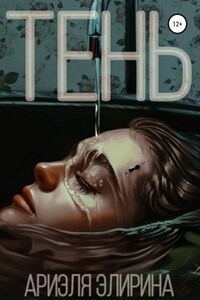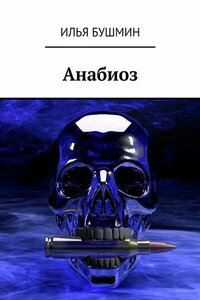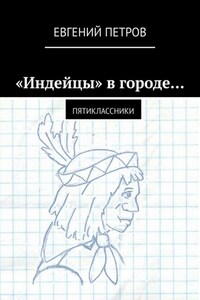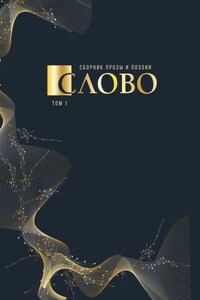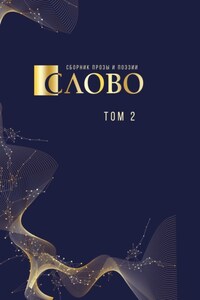«Псевдоготика» и разные формы её интерпретации в России в конце XVIII – начале XIX столетия
«Неоготика» остаётся, пожалуй, одним из самых интересных и трудно объяснимых явлений в истории русского зодчества. Зародившись ещё в недрах классицизма, как в некотором роде архитектурная фантазия, она чуть позже заметно приблизилась к своему историческому первообразу, а затем стала важной составляющей нарождающегося стиля «модерн».
Что роднит и отличает понятия «ложная готика», «псевдоготика» и «неоготика»? Следует ли, например, считать знаменитую Чесменскую церковь в Санкт-Петербурге, построенную по проекту Ю.М.Фельтена, неоготической? Или, может быть, начало этого стилистического направления в зодчестве России связано больше с именем одарённого архитектора Неёлова и его оригинальными «царскосельскими» постройками? А в каком ракурсе следует оценивать московские произведения Баженова и Казакова? Какие ассоциации у зрителя может вызывать, к примеру, Никольская башня столичного Кремля или ансамбль усадьбы в Марфино?
Всё это, во многом, риторические вопросы, требующие разъяснения и глубокого анализа.
Ни для кого не секрет, что интерес к готическому наследию в России, по настоящему, возник в эпоху романтизма. Это направление в литературе, искусстве и архитектуре стало в своём роде антитезой господствовавшему на протяжении ряда десятилетий классицизму. Новое культурное движение широко охватило просторы Европы и пробудило у представителей мыслящей художественной интеллигенции неудержимое желание обратиться в поисках творческого вдохновения к «тайникам» прошлого – средневековым источникам и экзотическому миру Востока. Зримым ориентиром для «романтиков» послужили не только героика и возвышенная патетика, но и стремление познать что-либо необычное, сокрытое от посторонних взглядов и, можно сказать, даже фантастическое. В конце XVIII столетия вновь начал активно проявляться интерес к сверхъестественным, мистическим явлениям, гаданиям и предсказаниям магов-кудесников.
Рациональное мышление, гармония и простота, нерушимые каноны и строгие правила как бы начали тяготить своим однообразием художников, наделённых пытливым умом и незаурядным природным дарованием. Захотелось более свободной творческой реализации, новых возможностей для самовыражения.
Устав от прозаической действительности, поэты и писатели начали с упоением воспевать и идеализировать «седую старину», о которой многие из них, по правде сказать, имели весьма смутное представление. В европейской литературе, в частности, обозначилась устойчивая тенденция обращения к забытому эпическому наследию ушедших веков – народным легендам, песням и сказаниям, рыцарским балладам, старинным рунам и т. д.
Живописцы, в свою очередь, в целом не отходя от общепринятой исторической и мифологической сюжетной основы, стали воссоздавать на своих полотнах сцены, наполненные бурными страстями, переживаниями и эмоциональной чувственностью. Яркая красочность этих картин, приёмы цветовых контрастов, динамические неуравновешенные композиции как бы стали наглядно передавать то внутреннее психологическое состояние, тот душевный порыв, который охватывал в некий момент создателей этих запоминающихся произведений. Распространилась мода на экспрессию, всякого рода внешние эффекты, способные приковывать к себе внимание зрителя.
В архитектуре, изначально лишённой живых чувств и ощущений, конечно, всё это отображалось несколько иначе – если можно так выразиться, на языке новых форм, воспринимаемых на подсознательном уровне, с учётом определённых знаний об архитектуре прошлых столетий. Русские зодчие, например, стали позволять себе некие вольности уже в «екатерининскую эпоху» – именно тогда, кстати сказать, в Россию и проникли так называемые «готицизмы».
В годы царствования Екатерины Великой «неоготические» тенденции вначале, ограниченно, проявились в садово-парковой архитектуре. Определённую роль в этой связи сыграло творчество одарённого русского зодчего И.В.Неёлова, работавшего в качестве придворного мастера в загородной резиденции императрицы в Царском Селе. В частности, он занимался проектированием служебных построек в дворцовом парке. По чертежам В.И.Неёлова в Царском селе в начале 1770-х годов были выстроены, в том числе, Эрмитажная кухня и комплекс сооружений Адмиралтейства. Тяготея к раннему классицизму по характеру общих планировочных решений, они своим внешним обликом явно свидетельствовали о том, что зодчий вдохновлялся отдельными примерами голландской архитектуры и северной кирпичной готикой.